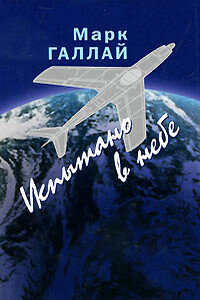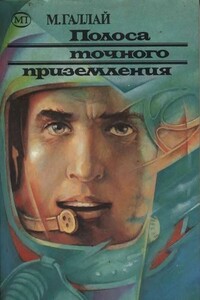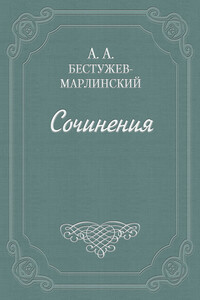Характерно, что, рассказывая в кругу семьи про войну, Арцеулов меньше всего говорил о собственных подвигах, хотя, казалось бы, три боевых ордена давали ему на то достаточные основания. Нет, он выбирает для рассказа прежде всего случаи комические, если хотите, развлекательные. Рядиться в тогу героя, пусть вполне заслуженную, — не в характере этого человека. Да и чувство юмора было в нем высоко развито, в частности, в наивысшем его проявлении: юморе, обращённом на себя.
…Но как бы ни отличался в боях улан Арцеулов, больше всего ему хотелось воевать не на земле, а в воздухе. И он упорно, не упуская ни одной, самой малой возможности, добивается этого.
В личном деле Арцеулова мы находим его пространную (и, похоже, далеко не первую) телеграмму, адресованную высшему авиационному начальству: «Прошу сообщить могу ли быть принят лётчиком в отряд воздушного флота имею звание пилота-авиатора диплом императорского аэроклуба № 45 в случае возможности прошу ходатайствовать и телеграфировать 137 госпиталь прапорщику 12 уланского Белгородского полка Арцеулову».
«Шеф» русской авиации великий князь Александр Михайлович даёт своё согласие, и тут же следует распоряжение о командировании Арцеулова в Севастопольскую школу авиации.
Дальше этапы лётной службы Арцеулова быстро следуют один за другим.
5 апреля 1915 года он прибывает в школу. Мы не знаем, какая там была в то время программа обучения. Сегодня опытные методисты ломают голову над тем, как уложить в трех-четырехлетний курс обучения в лётном училище все необходимое молодому военному или гражданскому лётчику. Но то — сегодня. А семьдесят лет назад весь опыт авиации был ещё настолько ограничен, что для его передачи новичку большого времени не требовалось. В самом деле, тактика боевого применения воздушного флота ещё только зарождалась — в начале первой мировой войны самолёты использовались преимущественно лишь как разведчики. Аэронавигации, в нынешнем понимании этого слова, не существовало — лётчики ориентировались по наземным ориентирам, сличая их с картой. Устройство самолёта и мотора, предполагалось, должен — до последнего винтика — знать моторист, а дело лётчика — не копаться в грязной технике, а летать. Конечно, уже тогда были лётчики, не исповедовавшие таких взглядов: Нестеров разрабатывал тактику боевых действий в воздухе, братья Ефимовы своими руками обслуживали и отлаживали аппараты, на которых летали. Перечень подобных примеров можно было бы продолжить, но это все равно были бы исключения. Те самые, которые, как известно, лишь подтверждают правило.
Мы коснулись этой проблемы с единственной целью: показать, что программа обучения в Севастопольской школе авиации не могла быть сколько-нибудь широкой, тем более для Арцеулова. Он-то ведь принадлежал к числу тех самых исключений: и на разных летательных аппаратах успел полетать, и международное звание пилота-авиатора получил, и планёры сам строил, да и вообще по своим знаниям и интеллекту, конечно, выделялся из среды курсантов школы. Школа была ему нужна «для проформы», ну и для того, чтобы немного потренироваться — восстановить навыки пилотирования, несколько «подржавевшие» за два с лишним года, в течение которых он не летал.
Много времени для этого не требовалось, и неудивительно, что всего через три с половиной месяца после появления в школе — 22 июля 1915 года — пилот-авиатор прапорщик Арцеулов успешно сдаёт экзамен в воздухе и получает звание «военный лётчик».
А через неделю, 30 июля, прибывает во фронтовой XVIII разведывательный корпусной авиационный отряд.
Начинается его боевая служба.
В разведывательном авиаотряде Арцеулов быстро становится одним из ведущих лётчиков — тех, которым поручаются (да они и сами за них берутся) самые важные, ответственные, они же, как правило, и самые рискованные задания.
Ратный труд всегда нелёгок. Особенно трудно было воевать в рядах авиации того времени. Лётчик первой мировой войны, впоследствии известный советский испытатель А.К. Туманский в книге «Полет сквозь годы» писал:
"В численном отношении наш воздушный флот стоял далеко не на последнем месте в мире. Но низкие качества самолётов и моторов, большая разнотипность и трудности их обслуживания, ремонта и пополнения естественной в условиях боевых действий убыли значительно снижали эту мощь.