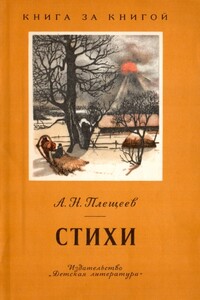— Так вы говорите, Лизавета Павловна, что любить недостойное любви нельзя? — спросил смуглый господин молодую девушку, слегка улыбнувшись.
— Я в этом убеждена.
— И даже имея надежду исправить, пересоздать его, как, например, Эдмея своего Мопра?
— Даже. Прежде чем не совершится это перевоспитание, привязаться к человеку, которого недостатки резко бросаются нам в глаза, нельзя…
— Значит, нельзя и перевоспитать…
— Это как?
— Чтобы перевоспитать, нужно сперва полюбить, без любви этого не сделаешь…
— Можно любить, но иначе, не тою любовью, о которой шла речь.
— Нет, тут нужна именно та любовь, потому что такое пересоздание требует жертв, беспрестанного самоотвержения, а на него способным делает нас только страсть.
— Позвольте мне с этим не согласиться. Любовь, в смысле милосердия, способна, может быть, на жертвы еще высшие…
— Сохрани бог, в подобном случае, от милосердия… Что скажет человек, которого вы вздумаете перевоспитывать, если заметит в вас сострадание к нему, не более… Разве гордость его не возмутится? Если ему знакомо «Горе от ума», то он непременно скажет вам: «Нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом…» Нет-с, в том-то и дело, что иметь благотворное влияние на другое существо, стоящее ниже вас по развитию, можно только тогда, когда это существо само не замечает, что вы хотите его переделывать, когда оно подчиняется бессознательному вашему нравственному превосходству.
— Такая гордость, о какой вы говорите, возможна только в человеке очень развитом. Это гордость искусственная, до нее доходят анализом, это не гордость, а мелочное самолюбие; оскорбительного в сострадании ничего нет для простой натуры.
— А мне так кажется, что подобная гордость должна быть во всяком человеке, хотя бы он в жизнь свою ни единой книги не прочел и даже не имел понятия о том, что такое анализировать свои чувства… Впрочем,— прибавил смуглый господин,— бросимте это. Сказать вам по правде, ни в какие перевоспитания я не верю, все это хорошо в романах, а в действительности этого, кажется, никогда не бывает, вероятно, потому, что редко нас хватает на самопожертвование, не доросли мы еще до него.
— Я знаю, что вы не верите ни во что высокое в жизни.
— В героическое не верю — грешен. Что делать… как-то мало попадалось на житейском пути героев! Иной, смотришь, и начнет, пожалуй, совсем как герой, так и ждешь от него чего-нибудь великого или думаешь, что ему сужден трагический конец, а на поверку выходит, что герой оказывается такою же тряпкою, как и наш брат простой смертный. Новый салоп жене понадобился или личного врага своего доконать захотелось, вот и конец геройству, и опять вспомнишь старика Крылова с его «Волом и Лягушкой».
— Удивительный взгляд, удивительная вера в людей; а я вот хоть и не встречала героев, а все-таки верю, что они возможны, и не думаю, чтобы каждый для женина салопа готов был забыть то, что для него должно быть всего дороже,— честь! Мне досадно, когда так говорят. Еще вы, я знаю, не из дурных побуждений говорите, а есть люди, которые сомневаются в возможности благородного подвига,— единственно из оскорбленного самолюбия. Они сознают, что в них самих нет силы для подвига, и им досадно видеть ее в другом. Из зависти они готовы заподозрить все честное и высокое.
— Но согласитесь, что если они не дураки, они не станут кричать против истинного подвига, совершенного в глазах у всех, потому что каждый будет вправе обвинить их в зависти; а если они видят, что подвига нет, что есть только фразы, за которые воскуряют фимиам, как за подвиг,— естественное дело, что им станет досадно, они чувствуют, что они ничуть не хуже того, кому воскуряют фимиам, они только не говорят фраз и потому не удостоиваются его. И вот они говорят: «Посмотрим, подождем, не окажется ли и этот герой таким несостоятельным, каким оказались мы». Помните, когда мы с вами были на фейерверке, когда три ракеты отсырели и вы сами начали говорить, что, верно, и остальные отсыреют, и действительно, все отсырели.
— Но по крайней мере, если б хоть одна ракета совершенно удалась, я бы не стала подкапываться и говорить: нет, все как-то нехорошо, и эта отсырела немножко…