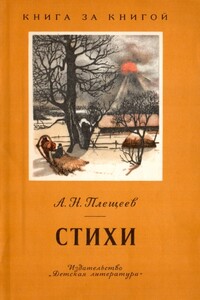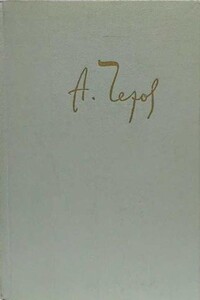В одном из тех немногих петербургских кварталов, где еще водятся деревянные домики с мезонинами, где весной пробивается на улицах травка, а в длинные зимние ночи господствует совершенная темнота, нанимал года четыре тому назад небольшую комнатку с мебелью и столом некто Виктор Иванович Костин.
Это был еще молодой человек, недавно простившийся с университетскими скамейками и не имевший в виду никакой определенной карьеры. Отца он не помнил, лишась его в детстве. Старушка мать, жившая где-то в глуши, незадолго до выхода своего Виктора из университета тоже отправилась на тот свет. Таким образом Костин остался один-одинешенек и мог произвольно располагать своей участью. Не было семьи, которую бы нужно поддерживать, которая бы искала в нем утешения и опоры. Долго думал о своем будущем юноша. Сердце его отзывалось на все хорошее. Он полон был весь этих пылких мечтаний, которыми так богата и так привлекательна молодость. Самое далекое и неосуществимое казалось ему таким близким, что, по его словам, стоило бы только какой-нибудь горсти честных и энергических людей дружно взяться за дело,— и все будет кончено. Он не шутя сердился, когда какой-нибудь скептик, помятый жизнью, называл его утопистом и говорил, что правнукам внуков его не дождаться того, что он надеялся сам увидеть. Восторженный молодой человек, может быть, действительно слишком иногда увлекался и мог показаться смешным тем солидным и черствым людям, которые как будто забывают, что и сами они были когда-то нечерствые и несолидные. Но все же эта детская вера в лучшие дни, этот шиллеровский энтузиазм, эти романтические порывы — не лучше ли они, чем пошлое разочарование, которым во время оно у нас щеголяли с легкой руки Печорина, или так называемая практичность, тоже стремящаяся, конечно, к общему благу, но никогда, однако ж, не до такой степени, чтобы упустить из виду свои собственные личные выгоды?
Натура Костина, впечатлительная и нервная, была способна к крайностям и увлечениям. Резкие суждения часто навлекали на него беду еще в стенах университетских. Но хорошие способности вывезли его, несмотря на выставленные ему на пути рогатки. Товарищи его очень любили, исключая, однако, тех, которые, имея за собой знатное происхождение и богатство, считали неблагородным всякое занятие, кроме волокитства за французскими актрисами, картежной игры да пьянства, и нагло смеялись над честными тружениками, преданными науке, но не имевшими средств носить батистовые рубашки и золотые часы. Костин не стеснялся выражать при них свое мнение об их образе мыслей и действий, что было им крепко не по зубам. Еще завидев его издали, они сворачивали с дороги, чтобы не встретиться с этим сапожником, как они говорили, который черт знает что о себе думает. Сапожником они называли каждого, кто — не граф и не князь и не поит их шампанским; но они были неправы, говоря, что Костин был высокого о себе мнения. Не было, напротив, человека менее самоуверенного, менее считавшего себя способным на какие-нибудь великие подвиги, и часто, подметив в себе какую-нибудь дурную черту, какое-нибудь мелочное поползновение, он горько сокрушался и называл себя ничтожнейшим и презреннейшим из людей. Нужно сказать, к его чести, что эти порывы раскаяния не оставались бесплодными и что он всеми силами старался перебороть себя. На дружбу товарищей он отвечал искренней, теплой привязанностью, которую всегда готов был доказать на деле.
Бюрократическая карьера никогда слишком не привлекала Костина. Притом же у него перед глазами были товарищи, определившиеся в разные департаменты и канцелярии. Одни из них горько жаловались, что должны по целым дням сидеть за перепиской бумаг, не представляющей голове никакой работы; другие так втягивались в рутинную чиновничью колею, так свыкались с тупой, кропотливой, механической деятельностью, что мало-помалу утрачивали свое человеческое достоинство и делались какими-то безличными, апатическими существами. Незаметно для них самих суживался их умственный кругозор; в них начинало свивать гнездо мелочное честолюбие, желание наград и повышений. Но повышения они добивались не потому, что оно влекло за собой больший простор для деятельности или представляло им более средства к применению своих убеждений. Нет, они видели в нем только прибавку жалованья или унижение соперника, метившего на это же самое повышение. Сделаться учителем Костин тоже не чувствовал особенного призвания; он уже давал уроки, чтоб поддержать свое существование, но исполнял свои обязанности далеко не так, как бы хотелось ему. Он понимал, что знать предмет и передавать его другим — две вещи разные… Он страстно любил литературу и постоянно следил за всем, что печаталось на родном языке. Обладая от природы эстетическим чувством, он возымел мысль посвятить себя искусству, в котором видел не забаву, а такое же служение истине и человечеству, каким должна быть и всякая другая общественная деятельность. Он никому не показывал своих юношеских опытов и не мог решить, есть ли у него талант. Тайный голос говорил ему только, что все эти опыты еще слишком незрелы, чтобы увидеть свет; и Костин, не торопясь печататься в каких-нибудь малочитаемых журнальцах, положил приняться за серьезный труд, где бы высказались все его задушевные помыслы и стремления… Целый год просидел он над повестью, и когда она была готова, решился, прежде чем нести ее к редакторам журналов, прочесть одному писателю, которого столько же почитал за его высокий талант, сколько и за доброе, любящее сердце. С писателем этим Костин случайно сошелся у кого-то из своих бывших профессоров, и потом часто ходил к нему. И в самом деле, трудно было представить себе личность более симпатическую. Даже наружность его неотразимо влекла к себе. Кто видел хоть раз это умное, благодушное лицо, к которому так шла преждевременная седина,— тот не забывал его. Чуждый педантизма и литературного