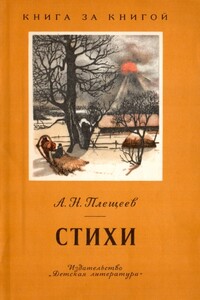Андрей Андреевич и Горностаев тоже присутствовали при чтениях Пашинцева. Первый большею частью молчал, хотя ему и хотелось подчас вклеить какое-нибудь словечко, выразить какое-нибудь суждение, но природная робость и недоверие к своим умственным способностям удерживали его. Он боялся обмолвиться, сказать что-нибудь невпопад и только кряхтел да посматривал исподлобья на Пашинцева, не скользит ли у него на губах насмешливая улыбка. Эта улыбка ужасно пугала бедного Сорочкина. Горностаев был смелее своего друга и хоть не часто, но возражал Пашинцеву. Споров, однако же, между ними не происходило, потому что оба они, и Горностаев и Пашинцев, не способны были бы поддерживать споры: Пашинцев сам не шел далее прочитанного; развить какую-нибудь мысль в своей голове было ему не под силу; иногда только, припомнив что-нибудь слышанное им от Заворского или от Мекешина, он повторял это слово в слово и приобретал, таким образом, весьма дешево репутацию умного человека в мнении своей невзыскательной аудитории.
Капитан тоже попробовал было слушать, но с первого же разу вздремнул и потом не отрывался более от трех листиков. Раз как-то Сорочкин, победив свою робость, рискнул наконец вымолвить свое слово, но — увы! — лучше бы ему было не рисковать. Надобно сказать правду, что он не совсем понял то, на что ему вздумалось возразить, но все-таки он не заслуживал такого страшного нагоняя, такого сильного щелчка своему самолюбию, какой заблагорассудил дать ему Владимир Николаевич. Между Пашинцевым и Сорочкиным повторилась та же история, которая происходила некогда между Заворским и Пашинцевым. Забыл ли наш юноша то неприятное положение, в которое ставили его резкие выходки Заворского, те глубокие раны, которые они наносили душе его, или обрадовался он случаю выместить на невинном существе свою еще не совсем зажившую боль; но только он не пощадил Сорочкина. Казалось, он выжидал только удобного времени, выжидал предлога, чтобы начать нападки на бедного чиновника. Действительно, с той поры он не переставал колоть и язвить его, намекая на его тупоумие и всеми силами старался унизить его в глазах Нади. Заворскому могло до некоторой степени служить извинением то обстоятельство, что он без памяти был влюблен в Лизу. Что же извиняло Пашинцева и для чего он старался расстроить доброе согласие между женихом и невестой? Заворский хорошо понимал, что, унижая перед Лизой человека, которого она взяла под свою нравственную опеку, он нисколько не ослабляет ее участия к нему и что только сам теряет этим в ее глазах, и потому вскоре победил дурное чувство, говорившее в нем, и сблизился с Пашинцевым. Пашинцев действовал иначе. Надя нравилась ему, но не до такой степени, чтобы Сорочкин мог возбудить в нем ревность. Он унижал его единственно из своего самолюбия. Гаденькое, эгоистическое, тщеславное побуждение руководило им. Ему было весело пустить пыль в глаза этому обществу, стоявшему ниже его по образованию (а по правде сказать, так мало ниже!); он хотел, чтоб ему удивлялись, поклонялись и, главное, чтоб его боялись. Если он хотел нравиться, то разве только одной Наде; если хотел заслужить чью-нибудь любовь, то разве ее. На других он взирал с высоты своего светского величия, и если в первый раз обошелся с ними ласково, то только с тою целью, чтобы иметь доступ к Наде и не слишком запугать ее. Он думал, что он уже подвиг совершает, развивая и просвещая эту девушку. Ни разу не пришла ему в голову мысль о том, что сталось бы с Надей, если бы удалось ему унизить в глазах ее Сорочкина, вселить к нему отвращение в ее сердце. Согласился ли бы Пашинцев заменить ей Сорочкина, жениться на ней? Жениться на бедной, ничтожной, необразованной девочке, не имеющей никакого понятия о светских приличиях, в которых он воспитан. И что сказал бы Ухабинск, что сказала бы madame Карачеева, если бы он вывез из захолустья такую жену? Обольстить девушку он считал бесчестным, низким. А назвать ее женой не хватило бы у него смелости. И потому, стараясь понравиться ей, возбудить в ней к себе привязанность, Пашинцев поступил бы как школьник, несмотря на роль ментора, которую он взял на себя. Он не мог не сознаться себе в этом. А между тем он не упускал случая сближаться с ней и, стараясь себя уверить, что действует исключительно в видах ее пользы, ее развития, поступал, однако же, не совсем чисто. Толкуя ей беспрестанно о ее прекрасной натуре, осужденной заглохнуть в душной и грязной среде, в которую бросила ее судьба, намекая ей то и дело, что Сорочкин не стоит ее мизинца, он не мог не вскружить ее голову.