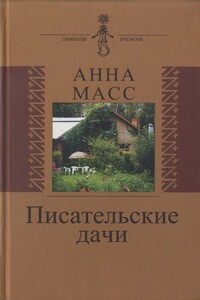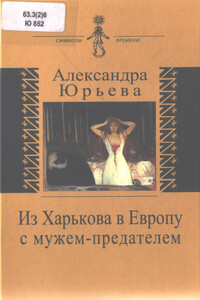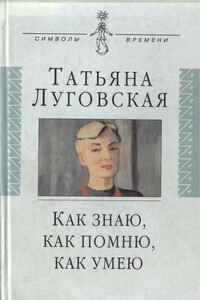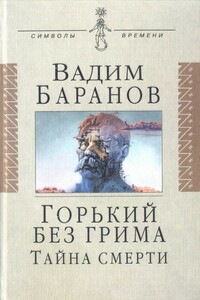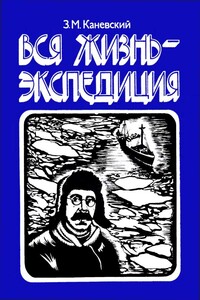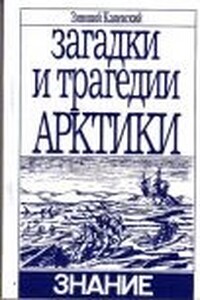Таким было мое первое, зримое во всех смыслах слова, соприкосновение с непостижимым, чудовищным миром, о котором я еще не прочел ни строки, поскольку авторы будущих «Колымских рассказов», «Крутого маршрута» и «Архипелага ГУЛАГ» оставались в то время подневольными обитателями того самого мира. Не успели мы выйти из самолета, как к нам подбежали люди в военном обмундировании без знаков различия с автоматами в руках и повели нас к каменному строению на краю аэродрома. Мы разместились в подвале с микроскопическими зарешеченными окнами, и хозяева ввели нас, как говорится, в курс дела.
До чего же хорошо нынешнему читающему люду! Открывает человек книги Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Александра Солженицына, газету «Известия» или журнал «Даугава» с публикацией словаря блатного языка, и читает себе о ворах в законе, об авторитетах, беспределе, вертухаях, наседках, кумовьях и прочих бесчисленных реалиях повседневного лагерного быта. И — никаких вопросов, крупнейшие писатели недавнего прошлого, а также современные средства массовой информации все на сей счет растолковали. Теперь представьте себе, какой авангардистской музыкой прозвучала в моих ушах одна лишь фраза, сказанная сопровождающим:
— Не бойтесь, товарищи, это в зоне сучня взбунтовалась, мы их за ночь переловим и в стойло загоним. Вы носа на улицу пока не высовывайте, а будут в окошки заглядывать — бейте из карабина, не вступая в разговоры!
На берегах залива Креста (кстати, «крест» на блатном жаргоне — вор) располагалась одна из дальстроевских зон, тысяч на двенадцать «сук», то есть воров, не отказывавшихся работать. Накануне сюда пришло судно «Таганрог», чтобы увезти часть заключенных на другой объект. В зоне узнали, что на борту находится небольшой контингент воров в законе, самых непримиримых врагов сучни, и тотчас решено было дать им бой. Откуда ни возьмись, у «наших» сук появились заточки, и несколько сот озверевших уголовников, сминая охрану, вырвались на волю, короткую, для большинства — смертную.
Сейчас по ним били из пулеметов, палили автоматными очередями, травили собаками, и к утру, как нам и обещали, мятеж подавили, мы же обрели утраченную на одну ночь свободу. Задерживаться в поселке не стали и быстрехонько откочевали на арендованном грузовике в глубь Чукотки, по трассе, проложенной от залива Креста к Иультину, нарождающемуся центру оловодобывающей промышленности.
Все четыре геофаковских года я грезил об этих краях. Словно завороженный, повторял на занятиях по физической географии Арктики десятки наименований. Тут были озеро Эльгыгытхын, остров Аракамчечен, поселок Эгвекинот, горные массивы Ыськатень, Ыннымней, Тэнтаный, Итэньюрген и, первейшая из первых, река Амгуэма, перерезающая с юга на север почти всю Чукотку. С ее берегов и начинался наш пеший маршрут, причем начинался неудачно: при переправе в надувной лодочке на левый берег реки мы уронили в воду ящик с солью, весь ее экспедиционный запас пошел на дно.
Пустячок, а неприятно… Добыть здесь соль не было никакой возможности, потому что чукчи издревле не пользуются ею, и государство никогда не было озабочено проблемой доставки соли во внутренние районы полуострова. Мы оказались обречены на двухмесячную бессолевую диету. До чего же обидно, что погиб именно этот продукт, а не буровое, допустим, оборудование — как облегчила бы подобная потеря всю нашу дальнейшую жизнь на протяжении семисоткилометрового пути!
По берегам реки и ее притоков кочевал чукотский оленеводческий колхоз. Либо совхоз, сами чукчи это не очень осознавали. По рассказам местного зоотехника, единственного русского на всю округу, кочевники то и дело «снимались с якоря» в поисках богатых ягельников, на которых кормились оленьи стада. Попутно это помогало как бы замести следы, не дать начальству вмешаться в жизнь аборигенов. Но к тому времени на Чукотке уже появились вертолеты, и убежать от них было очень и очень непросто, однако против сноровки, какую демонстрировали дети тундры, нередко были бессильны и эти ревущие стрекозы.
После недолгих торгов наш начальник нанял шестерых чукчей-проводников и стадо оленей голов двести, а то и триста. Поначалу я никак не мог взять в толк, зачем нам такое количество животных, если тридцать-сорок грузовых нарт потащат тридцать-сорок быков, но потом уразумел особенности техники и тактики будущего передвижения. Северный олень — существо не домашнее, а одомашненное, полудикое. Он не приручается, подобно собаке, корове и лошади, однако и не настолько сторонится человека, чтобы удирать при одном его виде. Олень позволяет загнать себя в упряжку, он даже не требует корма за труды — этот корм, лишайник-ягель, у него поистине подножный, но вот двигаться по воле человека без своих женщин и детей (важенок и оленят) ни одно уважающее себя бычье стадо не согласится. Мощные олени-самцы покорно тащат поклажу только в том случае, когда чуть поодаль бредут в том же направлении их семьи.