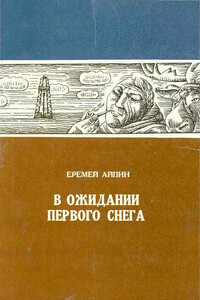— Штрейкбрехеров не пустим.
Помолчали. Докурили цигарки, вытряхнули недокурки в карманы.
— Так что же нам делать? — спросил скуластый. — Может, слышь, не напрасно ты нас угощал табачком? Не случайно тут встретил?
— Это уж как хотите. Мы к вам не идем.
— А к нам и идти некуда. Брестские мы, из депо… Безработные, словом. Этот, правда, — кивнул он на заросшего, в заплатах, — из села… по дороге пристал к нам.
Все стояли насупившись.
— На каменоломню идите, там берут, — посоветовал Проц. — И заработок вроде ничего.
— А вы что же?
— Нас не захотели. Ненадежные.
— Так, может, и правда податься? — соображали пришельцы, расспрашивали, как попасть на каменоломню.
— Я все же пойду на фольварк, — отозвался крестьянин. — Хоть куда-нибудь наймусь.
— Никуда ты, брат, не пойдешь, — стоял на своем Проц. — Не я заверну, так другие.
Крестьянин не обращал внимания. Вскинул косу на плечо и уже собрался было идти. Но Федор стал на дороге:
— Не доводи до греха. Хочешь — зайдем ко мне. Переночуешь, поедим, что там найдется, а против народу не иди.
— Я не нищий. Честно хочу заработать. Пусти.
Двое других стояли в стороне.
Проц побагровел, жилы у него на шее напряглись, как напившиеся пиявки.
— У меня дети. Слышишь, пусти.
— И у нас дети, — прошипел Федор. — Чуть не каждый день на кладбище носим… Иди домой и делай то, что мы.
Крестьянин хотел было обойти Проца, но тот крепко схватился за косовище, вырвал и тут же об колено сломал.
— Теперь как хочешь.
Стояли друг против друга черные от злости, оба с голодным блеском в глазах.
— Что ты наделал, понимаешь?
— Я же просил тебя, — обмяк уже Проц: ему стало жаль бедняка. — Меня народ послал.
Крестьянин еще больше ссутулился, длинные, как будто с квадратными ладонями, руки его опустились. Казалось, вот-вот он заплачет.
— Косовище я тебе отдам… Свое отдам, — успокаивал Федор, — приходи, как наши начнут косить. А сейчас не могу. На каменоломню идите.
— Может, и правда пойти? — вставил один из пришельцев. — Пошли, раз уж так, — сказал он пострадавшему. — Куда теперь тебе?
Крестьянин молча снял со сломанного косовища косу, обмотал ее вынутой из торбы тряпкой, взял под мышку.
— Счастливо, — бросил им вслед Проц. — Так вот этой дороги держитесь, никуда не сворачивайте. А если понадобится — Проца спросите… Федора Проца.
— Спасибо, — обернулся скуластый. — Хоть на добром слове спасибо.
Пошли. Двое — впереди, один, ссутулившись, сгорбившись, без косовища, — сзади. Проц еще долго сидел, курил, глядя им вслед.
Ночь. Над пущей, над Великой Глушей серебристой подковой повис молодой месяц. Накрапывает дождь — мелкий, воробьиный, — тихонько шумит в листве. На болоте не унимаются лягушки, словно прискакали туда по меньшей мере с половины света на свое лягушечье сборище.
Не спит настороженное село. Блестит огонек в постерунке, в одной из управительских контор графского поместья, у солтыса. Беспокоятся блюстители, приглядываются: кто как повернется, чем дышит?
Пся крев! Это быдло хоть на кол сажай — они все свое. Снова листовки, плакаты. Подпольные ячейки. И откуда берутся? Все тюрьмы забиты. Береза Картузская… Сколько постреляли! Не страшатся… С голоду дохнут, как осенние мухи, а тоже — волю им давай, независимость, образование на родном языке! Воссоединяй их с Великой Украиной… Дались им эти Советы! Думают, так-таки Пилсудский и расстанется с восточными кресами[5], отдаст их. Как же! Такой кусок! Одних лесов — не обойти, не объехать. А скотины! А рыбы! Да и хлеба… Пусть благодарят матерь божью, что в двадцатых годах Поднепровье уступили, это земли прадедов наших — Потоцких, Браницких. Спокон веков, пся крев! Воссоединение… Погодите! Будет вам и родной язык и воссоединение, лайдаки!
Постерунковый Постович крался по сельским улицам. Прошел мимо лавочки Пейсаха, оглядел, все ли хорошо, не наклеено ли каких листков, и только что завернул в переулок, где проживал пан солтыс, как от ворот метнулась тень.
— Стой! — во весь голос крикнул Постович и сорвал с плеча карабин. — Стрелять буду!
Но стрелять уже было поздно — человек легко перемахнул через плетень, кинулся в огороды. Постович подбежал к тому месту, где только что тенью мелькнул преступник. Остановился, прислушался: прошелестело к берегу. «Наверно, он не один, кто-то подал ему знак», — соображал Постович и еще пристальнее вглядывался в ночь. А она дышала покоем, благоухала терпкими запахами только что скошенных зеленых трав… Постович постоял еще, выругался неслышно и, держа оружие наготове, пошел ко двору. На новых солтысовых воротах белела бумажка. Постерунковый оглядел ее, осторожно сорвал — листовка была приклеена наспех.