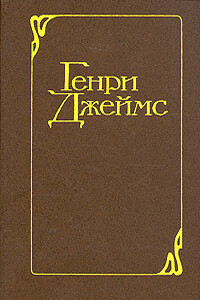– Что вы скажете о моей сестре, мисс Арчер? – отрывисто спросил мистер Озмонд.
Она не без удивления взглянула на него.
– Я, право, затрудняюсь с ответом – я слишком мало ее знаю.
– Да, вы мало ее знаете, тем не менее не могли не заметить, что и знать особенно нечего. Что вы скажете о принятом между нами тоне? – продолжал он с принужденной улыбкой. – Мне хотелось бы знать, как все это выглядит на свежий, непредвзятый взгляд. О, я знаю, вы скажете – вы слишком мало видели нас вместе. Конечно, все это было весьма мимолетно. Но приглядитесь, пожалуйста, в следующий раз, когда представится случай. Мне иногда кажется, мы опустились, живя в чужой нам среде, с чужими людьми, без обязанностей, без привязанностей, не имея ничего, что объединяло бы и поддерживало нас, – мы вступаем в брак с иностранцами, развиваем в себе не свойственные нам вкусы, пренебрегаем нашим естественным назначением. Позволю себе оговориться: все это я отношу скорее к себе, чем к своей сестре. Она настоящая леди – куда в большей степени, чем кажется. Она не очень счастлива, а так как не принадлежит к серьезным натурам, то и склонна представлять свое положение скорее в комическом, чем в трагическом свете. У нее ужасный муж, хотя не могу с уверенностью сказать, что она со своей стороны правильно ведет себя с ним. Но, согласитесь, дурной муж – тяжкий крест для женщины. Мадам Мерль не оставляет ее своими советами, но советовать моей сестре – все равно что давать ребенку словарь в надежде, что он выучит по нему язык. Он найдет в нем слова, но не сумеет составить из них фразы. Моей сестре нужна грамматика, но, увы, у нее не грамматический ум. Простите, что докучаю вам такими подробностями. Моя сестра права: я ввожу вас в круг семьи. Позвольте, я сниму картину – вам здесь темно.
Он снял картину, поднес ее к свету, рассказал о ней много любопытного. Изабелла осмотрела и другие его сокровища; он давал пояснения, сообщая подробности, которые могли бы показаться занимательными молодой леди, приехавшей с визитом в погожий летний день. Его картины, его медальоны и гобелены представляли несомненный интерес, но, как очень скоро пришло на мысль Изабелле, наибольший интерес, независимо от этих шедевров, обступавших его со всех сторон, представлял собой их владелец. Он отличался от всех, с кем ей до сих пор случалось сталкиваться: большинство известных ей людей укладывалось в пять-шесть типов. Исключение составляли лишь немногие – например, она затруднилась бы определить, к какой разновидности отнести тетушку Лидию. Еще она, в общем, готова была признать – и то скорее из вежливости – известное своеобразие за мистером Гудвудом, кузеном Ральфом, Генриеттой Стэкпол, лордом Уорбертоном, мадам Мерль. Впрочем, даже и они, стоило только присмотреться к ним поближе, подходили по своей сути под ту или иную знакомую ей категорию. Но она не знала такого класса, в котором мог бы занять место мистер Озмонд, – он стоял особняком. Мысли эти не сразу пришли ей в голову; они выстроились постепенно.» тот момент она только сказала себе, что эта «новая дружба» может оказаться весьма и весьма обещающей. На мадам Мерль тоже лежала печать исключительности, но до какой степени выигрывал в значительности отмеченный ею мужчина! Не столько то, что говорил и делал Озмонд, сколько то, что оставалось несказанным, обнаруживало, на взгляд Изабеллы, его необычность – словно один из тех знаков, которые он показывал ей на обратной стороне старинных тарелок или в углу картин шестнадцатого века. Он не стремился выделиться из общего ряда, но был не такой, как другие, хотя и не казался странным. Изабелла никогда еще не встречала человека столь утонченного. Оригинальна была его внешность, оригинальны и самые неуловимые проявления душевного склада. Густые мягкие волосы, резкие, словно обведенные контуром, черты, чистое лицо, яркий, но не грубый румянец, на удивление ровная бородка и та легкость, та изящная стройность фигуры, когда малейшее движение руки превращается в выразительный жест, – все эти особенности его облика казались нашей впечатлительной героине свидетельствами глубины, благородства и, во всяком случае, сулили много интересного. Мистер Озмонд был, несомненно, взыскателен и разборчив – вероятно, даже капризен. Он повиновался своей тонкой чувствительности – возможно, даже чересчур; ему претила пошлая суета, он создал себе свой мир – отобранный, просеянный, упорядоченный – и жил в нем, размышляя об искусстве, красоте, о событиях прошлого. Он следовал собственному вкусу – пожалуй, только ему он и следовал, как отчаявшийся выздороветь больной прислушивается под конец лишь к советам своего поверенного, и это-то делало Озмонда столь непохожим на всех других. Нечто подобное было и в Ральфе – он тоже, казалось, видел смысл существования в умении ценить прекрасное, но у Ральфа это выглядело аномалией, каким-то смешным наростом, а у Озмонда проходило лейтмотивом его жизни, звучавшим в гармонии со всем остальным. Она, конечно, далеко не все в нем понимала, смысл его речей подчас ускользал от нее. Например, что он имел в виду, называя себя провинциалом, – чего-чего, а провинциализма в нем не было и следа! Что это – безобидный парадокс, которым он мнил озадачить ее, или верх утонченности высокой культуры? Ну ничего, со временем она, конечно, разберется в нем, ей интересно в нем разобраться. Уж если провинциален он – это чудо гармонии, – в чем же тогда столичный лоск? Она могла задать этот вопрос, хотя и сознавала, что собеседник ее непомерно робок, но робость подобного сорта – робость от чутких нервов и тонкого понимания вещей – не мешала самой большой изысканности. Собстэенно, она скорее служила доказательством особых принципов и правил, иных, чем у пошлой толпы: Озмонду необходимо быть уверенным, что в схватке с толпой победа останется за ним! Он не принадлежал к числу самоуверенных господ, что с легкостью поверхностных натур охотно судят и рядят обо всех и вся; взыскательный к себе не меньше, чем к другим, многое от них требуя, он, надо думать, с достаточной иронией взирал на то, что сам способен был дать, – и это тоже было лишним доказательством того, что самонадеянностью он не страдал. Да и не будь он робок, не было бы и той постепенной, едва заметной, чудесной перемены, которая так понравилась ей в нем и так ее заинтриговала. А этот внезапный вопрос – каково ее мнение о графине Джемини – означал только одно: Озмонд заинтересовался ею; вряд ли ему нужна помощь, чтобы разобраться в собственной сестре. А такой интерес к ней говорил о пытливости его ума – правда, жертвовать своей любознательности братскими чувствами – это, пожалуй, чересчур. Да, это самое странное из всего, что он сказал или сделал.