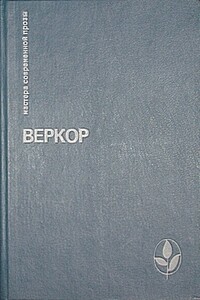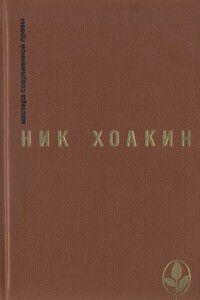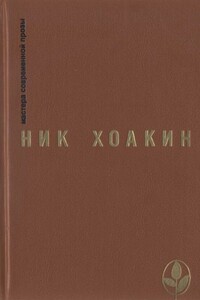Не ведая, что его списали со счетов истории, он пытался найти в ней свое место, хотя думал, что попросту ищет золотую жилу. Он не терял уверенности в себе, отказывался признать себя больным, упорно занимался пустяковой работой в журнале, но — по-прежнему вдохновенно прорицая великое будущее — сбрил усы и приобрел манеры бизнесмена нового толка. Собрав оставшиеся небольшие средства, он вложил их целиком в еще одно предприятие по добыче золота, и это снова кончилось крахом. Борромео вынуждены были продать свой дом и снять дешевую квартиру. Для Кончинг Борромео, которая всегда жила в собственном доме, жизнь под чужим кровом была бесчестьем, ежемесячные встречи с хозяйкой дома — унижением, особенно с тех пор, как хозяйку приходилось все чаще приветствовать словами: «Не могли бы вы подождать до следующей недели?» А потом журнал, в котором работал Эстебан, объявил, что и вовсе прекращает публикацию на испанском языке. Эстебан написал жившему за границей брату и попросил его приютить детей, а когда пароход увез с Филиппин его четверых сыновей, умирающий бунтарь слег в постель и больше уже не вставал. Жена перевезла его в дом своего отца, куда он отказывался перебраться, пока еще был на ногах, и где годом позже, в бреду, вообразил, что снова молод, и — как в тот апрельский вечер, когда он выскочил на сцену из суфлерской будки и попытался произнести пламенную речь, размахивая галстуком, — умер, размахивая полотенцем, как знаменем.
Кончинг Борромео почувствовала, что ее жизнь тоже оборвалась. Она осталась в запущенном доме отца, где вечно ссорились две ее сестры — старые девы, а она и ее овдовевший отец молчали под удивленными взглядами ящериц. Двадцатые годы подходили к концу, но кончалось больше, чем десятилетие; и она чувствовала себя такой же старой, как ее отец, как те старики, что собирались в обветшавших гостиных поговорить о былом. Она полагала, что всю оставшуюся жизнь ей предстоит прожить в мире этих обветшавших гостиных среди этих стариков, а потому не сняла траура и через год после смерти мужа; день ото дня она становилась все апатичнее, все хуже спала по ночам и наконец неожиданно для себя обнаружила, что завела роман с человеком, к которому ее влекла не столько страсть, сколько жалость. Ее любовник принадлежал к поколению Эстебана; подобно Эстебану, в девяностых годах он считался многообещающим писателем, но в отличие от Эстебана становился все более замкнутым и подавленным по мере того, как умолкали голоса его сверстников; он сумрачно бродил по обветшавшим гостиным с потерянным видом, производя впечатление бесплотного привидения, а в конце концов — видимо, лишь для того, чтобы самому себе доказать, что он еще жив, — решился на отчаянный шаг и бросился с моста. После первого, яркого замужества он казался Кончинг Борромео таким анемичным и бескровным, таким жалким любовником, что, когда его тело выудили из воды, вся скорбь, которую это событие могло бы в ней вызвать, растворилась в шоке неожиданного открытия: он оставил ее беременной. Ее охватила паника, но она твердо помнила об одном: ее отец не должен ничего знать, позор не должен пасть на его седины. И она снова превратилась в юную Кончиту Хиль, которая, чтобы не обидеть родителей, целый год разыгрывала хитроумный спектакль. Пряча стыд за темной вуалью, она отправилась к Маноло Видалю.
В былые дни Маноло Видаль был заметной фигурой на сборищах в доме ее отца. Как и Эстебан, он учился в Испании, участвовал в революции, как и все в девятисотые годы, верил в незыблемость старого порядка. Но он быстро сообразил, что будущее не за Эстебанами Борромео, понял, что они окажутся в тупике, и еще понял, что в будущем политика будет играть куда более важную роль, чем литература. Сориентировавшись, он покинул лагерь обреченных и примкнул к людям, группировавшимся вокруг молодого Кесона[19], которые понимали, что американизация неизбежна, и сами шли ей навстречу — по этой причине, кстати, в среде «старой гвардии» имя Кесона всегда произносили лишь с иронией. В то время как его менее гибкие сверстники погружались в пучину нищеты, бросались с мостов или просто тихо увядали, звезда Маноло Видаля все выше поднималась на политическом небосклоне. Он также был известен как блестящий хирург и как развратник; в обветшавших гостиных полагали, что он использовал свою профессию в целях, отвечающих его низменным страстям, и что девушки из приличных семей, попавшие в беду, легко могли избежать скандала, согласившись на его гнусные условия. Когда Кончинг Борромео отправилась к нему, она была готова на любые условия.