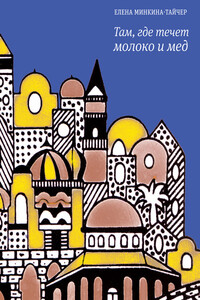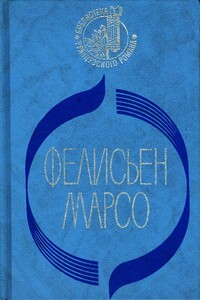Мать когда–то переписала в эту тетрадь любимые стихи, в России их еще не было в продаже, — ни Цветаевой, ни других. Он потихоньку заглядывал, пытался понять, волновался и злился –
Люби меня, припоминай и плачь!
Все плачущие не равны ль пред Богом?
что–то останавливалось внутри, хотя еще не пришло время потерь.
Мне снится, что меня ведет палач
По голубым предутренним дорогам.
Сразу раздражался, — почему палач? Почему дороги голубые? Дороги должны быть серыми от тумана.
Невозможно было спросить, ненавидел ее снисходительную грустную улыбку, вздохи, весь этот женский вздор. Но сейчас начал листать лихорадочно –
Как правая и левая рука,
Твоя душа моей душе близка.
— оказывается, можно сказать такими простыми словами!
Не успокоюсь, пока не увижу,
Не успокоюсь, пока не услышу.
Переписать и послать? Три часа прокопаешься! Почти не помнил, как писать на русском, и Орна начнет спрашивать. Вот идиот! Нужно посмотреть автора и найти в интернете!
Листы были тонкие, чернила побледнели, но слова хорошо разбирались. Хотел сунуть в сумку, но что–то еще мешало под обложкой. Развернул медленно, почему–то все больше волнуясь, и вытащил письмо в пожелтевшем конверте. Их старый адрес, выведенный старательным детским почерком по–английски, а обратный написан по–русски, уже без всякого старания. С трудом стал разбирать: Москва, Сиреневый бульвар, дом14, кв.2, И. Г. Розенфельд.
Не может быть! Поспешно развернул письмо, все тот же неразборчивый почерк на старом листке, стал читать, путаясь и перепрыгивая строчки: Мои дорогие… после вашего отъезда жизнь совсем опустела… часто спрашивают и передают привет… все тот же холод и грязь … новая ветка метро … много интересных выставок… помнит ли мой ненаглядный Яшенька … горжусь и мечтаю о встрече! Всегда ваша Инна.
Конечно! Тетя Инна, старшая сестра отца, как он мог забыть! Деда звали Генрихом, значит, она — Инна Генриховна, И. Г. Розенфельд. Все просто!
Про деда знал совсем мало, — еврей–мечтатель из польско–немецкого местечка приехал строить революцию в Россию, в числе первых загремел в сталинские лагеря, отец его почти не помнил. Впрочем, он сам с отцом уже полгода не разговаривал, — раздражали восторги немецкой аккуратностью и погодой, старческая самодовольность. Да еще жена отца рвалась принять участие в разговоре, ахала, приглашала в гости. Интересно, поддерживает ли он связь с сестрой?
Перечитал письмо, спотыкаясь на фамилиях и названиях. Ненаглядный Яшенька — с ума сойти! Тысячу лет не вспоминал этого детского имени, тут же всплыли в памяти походы на елку, какие–то шикарные конфеты с картинками, «подарки» в ярких картонных коробках. Тетя специально брала отпуск на его зимние каникулы, приезжала с утра в тяжелой, сладко пахнущей шубе, еще от дверей махала огромным красивым билетом с Дедом Морозом. Кажется, у нее никогда не было своей семьи, или он просто не знал?
Зима в этом году очень удачная, все говорят. Наступила сразу, без нудных заморозков и оттепелей. Чистый белый снег лежит на обочинах и крышах машин, чего давно уже не помнят в городе. И на Новый год обещают снегопад и легкие заморозки.
Я ненавижу зиму.
У папы лет в сорок вдруг началась аллергия на клубнику, что было немного смешно, потому что она единственная росла у нас на даче, все остальные бабушкины посевы почему–то засыхали. Съел свою жизненную норму, — шутил отец, — ничего не поделаешь.
Я съела свою жизненную норму холода, колючего воздуха на лице, скользких грязных тротуаров. У меня останавливается сердце и дыхание от этого пронизывающего ветра с Невы, бесконечных сумерек, серого–серого–серого неба.
Сонное серое утро на работе, с трудом добиваю годовой отчет. Беспрерывно звонит телефон, босс сердито посматривает, но молчит пока. Все–таки я его ни разу не подвела за предыдущие годы.
Сначала была Надя по поводу зимних каникул и елки, потом Гришка с очень важным вопросом по шахматам, потом Глеб. Кстати, предложил вместе пойти вечером за подарками к празднику. Что ж, пойдем вместе, никто не спорит. Опять телефон, значит, теперь мамина очередь, это на полчаса, не меньше, крепись, госпожа Розенфельд!