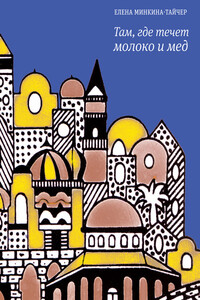* * *
Нет, у Ляли получилась вполне счастливая жизнь. Во-первых, прекрасная работа. Какая удача, что с третьего курса записалась на факультатив по истории искусств. Конечно, до аспирантуры дело не дошло, золотая оттепель шестидесятых закончилась, но все-таки удалось вволю поработать и в Пушкинском Доме, и в архивах Эрмитажа. Друзей она обожала, причем совершенно взаимно, дома ждали любимые люди – отец и дочь. Правда, иногда рисовались другие картины семейного счастья – муж, спящие дети, тихий уютный ужин вдвоем. Или наоборот – шумные многолюдные именины, сюрпризы, подарки. Но Анечка с Гинзбургом совершенно не вписывались в этот праздник жизни. А что ей были без них любые праздники?
Про Одоевцева Ляля запретила себе даже думать. Судьба подарила немыслимые счастливые минуты, чего же больше! Саша сам решил уйти, значит, не мог иначе. И смерть его уже ничего не добавила к их разлуке, просто было бесконечно жаль талантливого нестарого человека.
За ней много ухаживали, даже в поздние годы, когда хорошо перевалило за сорок, и по дому бегала внучка Маша. Конечно, Ляля скоро научилась распознавать искателей приключений, легко принимала комплименты, стремительно и весело давала отпор незатейливым, всегда похожим обещаниям. Но были, были еще два случая в жизни, когда земля поплыла под ногами и мир опрокинулся от непостижимой щемящей и сладчайшей муки. Первый – мальчик, студент (боже, почти ровесник ее зятя Сережи!), трепетал и молился, как в рассказе Цвейга, ждал, преследовал после занятий. Горячие губы, горячие дрожащие руки… Была даже мысль завести второго ребенка, разумеется тайно, ничем его не связывая, но времена Цвейга все же прошли. И снова перед глазами стояли Гинзбург и Аня.
Второй, слава богу, одного с Лялей возраста, вначале показался удивительно близким, до изумления и нереальности близким, какой-то непостижимый духовный двойник. Огромный, теплый, как печка, смешной увалень, он прекрасно пел Окуджаву и Визбора, можно было прижаться к плечу и совсем не разговаривать, потому что все совпадало – фразы, шутки, комплексы, стихи. Конечно, он был давно и несчастливо женат, конечно, маялся, не в силах ничего решить, клялся, жалел себя и детей, даже плакал. Ляля знала, что может настоять, но стоило ли ломать чужую жизнь? Все-таки это был совсем не Одоевцев.
Перед ее отъездом в Израиль они тепло простились, словно близкие родственники, потом он приехал с какой-то пароходной экскурсией из Одессы, Ляля помчалась в порт, долго бродили по сонной горячей Хайфе, сидели в кофейне на берегу. Он рассказывал про перемены в России, новую непривычную свободу, реставрацию памятников и театров. И даже неважно, какая мафия платит, временщики уйдут, а красота останется, вот теперь и за Питер взялись наконец. Она слушала, улыбалась, смотрела на его поседевшую голову, как всегда, не требовалось отвечать. Дети давно выросли, жили собственной независимой жизнью, и это ничего не меняло и не могло изменить.
* * *
Эли получил отпуск на два дня как раз перед Машиным отъездом, но нечего было и думать, что он сразу появится. Как всегда образовались важные встречи с друзьями, один недавно вернулся с учений, второй служил на территориях, приезжал раз в месяц, молчаливый, обгоревший до черноты. Мишель в который раз стыдила себя за ненужные обиды, – люди трудятся и служат родине, а она уезжает в спокойную безопасную Прагу, всего на три недели, есть о чем говорить!
Ляля купала Данечку и одновременно рассказывала историю пражского гетто, хотя никто ее и не слышал за шумом воды. На полу стоял почти собранный чемодан, Гинзбург давал последние важные советы по поводу поведения и нравственности. Прибежала мама и принесла пижонскую вельветовую курточку с карманами, как раз для европейской погоды.
В принципе, Мишель очень повезло с семьей. Родители сразу после языковых курсов попали в крупную программистскую фирму, сначала папа, а через месяц и мама. Ляля вдохновенно учила иврит, шила наряды для местных модниц, бегала на собрания какого-то культурного центра, а потом неожиданно для всех устроилась работать экскурсоводом на Via Dolorosa!