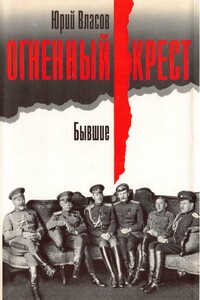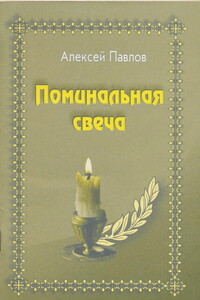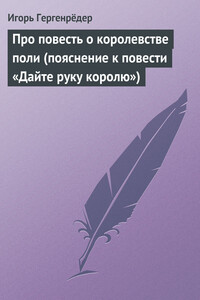Все почтительно слушали, пока он диктовал. Одна пожилая дама, с благоговением взиравшая на Распутина, шепнула мне: «Вы счастливая, он вас сразу отметил и возлюбил».
«Это ты возьми и читай, сердцем читай», — сказал он. Потом стал разговаривать с другими. Заговорили о войне. ”Эх, кабы не пырнули меня, не бывать войне. Не допустил бы я государя. Он меня вот как слушается, а я бы не дозволил воевать. На что нам война? Еще что будет-то…”»[18].
Распутина постоянно ссужал деньгами и, помимо того, платил за его квартиру Дмитрий Львович Рубинштейн — главный директор одного из частных петроградских банков. Его арестует военная контрразведка по подозрению в шпионаже и подрывной деятельности.
Кроме Муни Головиной, секретарем и доверенным Распутина будет еще и Иван Федорович Манасевич-Мануйлов — платный агент охранки и военной контрразведки, спекулянт и выжига.
В его биографии, написанной Бецким и Павловым (Л., «Былое», 1925), имеются такие строки:
«…Еврейского происхождения, сын купца, Мануйлов, еще учеником училища, обратил на себя внимание известных в Петербурге педерастов Мосолова и редактора газеты «Гражданин» князя Мещерского, взявших под свое покровительство красивого, полного мальчика. Приняв православие, он при содействии князя Мещерского и Мосолова поступает на государственную службу…»
Мануйлов тоже будет арестован до февральского переворота и приговорен к полутора годам «арестантских отделений с лишением всех особых, лично и по состоянию присвоенных прав и имуществ». Октябрьская революция даст ему волю. При попытке выехать в Финляндию будет опознан матросом из той охраны, которая состояла при Петропавловской крепости, где Мануйлов содержался по суду.
Тут же, возле границы, и будет пущен в расход.
Встретил казнь совершенно спокойно. Роздал конвоирам, а по совместительству палачам, разные личные вещи — «на память о Мануйлове». И с улыбкой встал под винтовочные дула.
И это лишь два человека из окружения Григория Ефимовича, облепленного сворой авантюристов и самых темных личностей. Подонками считали российские офицеры всех, кто служил в охранке. Так, Борис Михайлович Шапошников, вспоминая дореволюционную императорскую армию, писал:
«По традиции офицеру, уходившему в жандармский корпус, товарищеских проводов часть не устраивала (проводы же в другую часть были обязательны. — Ю. В.), а затем с ним вообще прекращались всякие отношения. Так реагировала армия на существование корпуса жандармов, она с отвращением читала циркуляры военного министра о приобщении к работе в армии подонков офицерства»[19].
Для общества эти люди являлись отбросами, ибо выбирали смыслом жизни доносительство, воровство писем, подглядывание, допросы, копание в личной жизни людей и палачество. Это в нынешнем искривленном мире подобные устремления считаются почетными, а служба в ВЧК, КГБ, ЦРУ стала предметом воспевания. Все это — убийства беззащитных людей, грязь, насилие именем государства (речь здесь, естественно, не о военной разведке).
В мировую войну Россия вступила неподготовленной. Германия учитывала, что русская армия (как и армии ее союзников) будет полностью вооружена, обмундирована, иметь запасы оружия и боеприпасов, а стало быть, и готова к сражениям (как и флот) лишь к 1917 г. Германия учла — и форсировала события. Война грянула к исходу лета 1914 г.
Неподготовленность Вооруженных Сил вызвала в России и гнев народа, и патриотическое движение в помощь фронту.
Например, из-за недостатка продовольствия в зиму 1914/15 г. на Кавказском фронте направлять туда сколь-нибудь значительные пополнения было невозможно. На участке фронта, который проходил по южному берегу озера Ван, войска неделями не получали ни крошки хлеба и провианта — обеспечивали же себя мародерством. Можно представить, как это сказывалось на дисциплине.
На Западном фронте к 15 января 1915 г. из сапог, поступивших в армии, лишь 44 % оказались в порядке, 32 % почти тотчас развалились, в результате 24 % нижних чинов остались вовсе без обуви. Обходились тем, что снимали обувь с убитых, пленных или перевязывали веревками старую обувь.