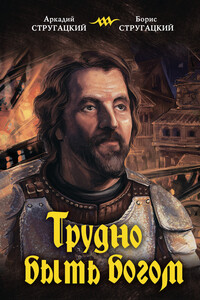Максим отошел от окна, постоял немного посередине тесной комнатушки, расслабившись, ощущая апатию и душевную усталость, потом заставил себя собраться и размялся немного, используя в качестве снаряда громоздкий деревянный стол. Так и опуститься недолго, подумал он озабоченно. Еще день-два я, пожалуй, вытерплю, а потом придется удрать, побродить немного по лесам… в горы хорошо бы удрать, горы у них здесь на вид славные, дикие… Далековато, правда, за ночь не обернешься… Как их Гай называл? Зартак… Интересно, это собственное имя или горы вообще? Впрочем, какие там горы, не до гор мне. Десять суток я здесь, а ничего еще не сделано…
Он втиснулся в душевую и несколько минут фыркал и растирался под тугим искусственным дождиком, таким же противным, как естественный, чуть похолоднее, правда, но жестким, известковым, и вдобавок еще хлорированным, да еще пропущенным через металлические трубы.
Он вытерся продезинфицированным полотенцем и, всем недовольный – и этим мутным утром, и этим душным миром, и своим дурацким положением, и чрезмерно жирным завтраком, который ему предстоит сейчас съесть, – вернулся в комнату, чтобы прибрать постель, уродливое сооружение из решетчатого железа с полосатым промасленным блином под чистой простыней.
Завтрак уже принесли, он дымился и вонял на столе. Рыба опять закрывала окно.
– Здравствуйте, – сказал ей Максим на местном языке. – Не надо. Окно.
– Здравствуйте, – ответила она, щелкая многочисленными задвижками. – Надо. Дождь. Плохо.
– Рыба, – сказал Максим по-русски. Собственно, ее звали Нолу, но Максим с самого начала окрестил ее Рыбой – за общее выражение лица и невозмутимость.
Она обернулась и посмотрела на него немигающими глазами. Затем, уже в который раз, приложила палец к кончику носа и сказала: «Женщина», потом ткнула в Максима пальцем: «Мужчина», потом – в сторону осточертевшего балахона, висящего на спинке стула: «Одежда. Надо!» Не могла она почему-то видеть мужчину просто в шортах. Надо было ей зачем-то, чтобы мужчина закутывался с ног до шеи.
Он принялся одеваться, а она застелила его постель, хотя Максим всегда говорил, что будет делать это сам, выдвинула на середину комнаты стол, который Максим всегда отодвигал к стене, решительно отвернула кран отопления, который Максим всегда заворачивал до упора, и все однообразные «не надо» Максима разбивались о ее не менее однообразные «надо».
Застегнув балахон у шеи на единственную сломанную пуговицу, Максим подошел к столу и поковырял завтрак двузубой вилкой. Произошел обычный диалог:
– Не хочу. Не надо.
– Надо. Еда. Завтрак.
– Не хочу завтрак. Невкусно.
– Надо завтрак. Вкусно.
– Рыба, – сказал ей Максим проникновенно. – Жестокий вы человек. Попади вы ко мне на Землю, я бы вдребезги разбился, но нашел бы вам еду по вкусу.
– Не понимаю, – с сожалением сказала она. – Что такое «рыба»?
С отвращением жуя жирный кусок, Максим взял бумагу и изобразил леща анфас. Она внимательно изучила рисунок и положила в карман халата. Все рисунки, которые делал Максим, она забирала и куда-то уносила. Максим рисовал много, охотно и с удовольствием: в свободное время и по ночам, когда не спалось, делать здесь было совершенно нечего. Он рисовал животных и людей, чертил таблицы и диаграммы, воспроизводил анатомические разрезы. Он изображал профессора Мегу похожим на бегемота и бегемотов, похожих на профессора Мегу, он вычерчивал универсальные таблицы линкоса, схемы машин и диаграммы исторических последовательностей, он изводил массу бумаги, и все это исчезало в кармане Рыбы без всяких видимых последствий для процедуры контакта. У профессора Мегу, он же Бегемот, была своя метода, и он не намеревался от нее отказываться.
Универсальная таблица линкоса, с изучения которой должен начинаться любой контакт, Бегемота совершенно не интересовала. Местному языку пришельца обучала только Рыба, да и то лишь для удобства общения, чтобы закрывал окно и не ходил без балахона. Эксперты к контакту не привлекались вовсе. Максимом занимался Бегемот, и только Бегемот.
Правда, в его распоряжении находилось довольно мощное средство исследования – ментоскопическая техника, и Максим проводил в стендовом кресле по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки. Причем ментоскоп у Бегемота был хорош. Он позволял довольно глубоко проникать в воспоминания и обладал весьма высокой разрешающей способностью. Располагая такой машиной, можно было, пожалуй, обойтись и без знания языка. Но Бегемот пользовался ментоскопом как-то странно. Свои ментограммы он отказывался демонстрировать категорически и даже с некоторым негодованием, а к ментограммам Максима относился своеобразно. Максим специально разработал целую программу воспоминаний, которые должны были дать аборигенам достаточно полное представление о социальной, экономической и культурной жизни Земли. Однако ментограммы такого рода не вызывали у Бегемота никакого энтузиазма. Бегемот кривил физиономию, мычал, отходил, принимался звонить по телефону или, усевшись за стол, начинал нудно пилить ассистента, часто повторяя при этом сочное словечко «массаракш». Зато когда на экране Максим взрывал ледяную скалу, придавившую корабль, или скорчером разносил в клочья панцирного волка, или отнимал экспресс-лабораторию у гигантского глупого псевдоспрута, Бегемота было за уши не оттянуть от ментоскопа. Он тихо взвизгивал, радостно хлопал себя ладонями по лысине и грозно орал на изнуренного ассистента, следящего за записью изображения. Зрелище хромосферного протуберанца вызвало у профессора такой восторг, словно он никогда в жизни не видел ничего подобного, и очень нравились ему любовные сцены, заимствованные Максимом главным образом из кинофильмов специально для того, чтобы дать аборигенам какое-то представление об эмоциональной жизни человечества.