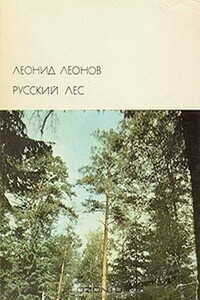Когда же среди ночи он выходил на улицу и оставался в одиночестве, ему становилось так нестерпимо тошно, что не хватало мужества идти домой пешком; хотелось тут же броситься на землю, как бывало, когда он, маленький виртуоз, возвращался с вечеров у герцога и с трудом удерживался от такого же порыва. Иногда у него оставалось всего пять-шесть франков до конца недели, и все же он тратил два из них на фиакр. Он опрометью бросался в экипаж, лишь бы очутиться подальше, и всю дорогу стонал от отвращения. И он продолжал стонать дома, в постели, засыпая… Потом вдруг разражался хохотом, вспомнив какую-нибудь нелепую фразу. Он ловил себя на том, что сам повторял ее, передразнивая жесты говорившего. На следующий день и даже спустя несколько дней он иногда, гуляя в одиночестве, начинал вдруг рычать, как дикий зверь… Зачем ходил он к этим людям? Зачем он к ним ходит? Зачем принуждает себя повторять чужие жесты, чужое кривлянье, притворяться, будто интересуется тем, что вовсе его не интересует? Но вправду ли не интересует? Год тому назад он бы и часу не мог усидеть с этими людьми. Теперь же они забавляли его, хоть и по-прежнему раздражали. Неужели и он стал заражаться парижским равнодушием? И им овладело беспокойство, уж не сдал ли он. Но нет, напротив, он становился сильнее. В чуждой среде он стал свободнее духом. Глаза его невольно раскрывались на великую Комедию жизни.
Впрочем, нравилось ему это или нет, а приходилось мириться с такой жизнью, если он хотел, чтобы его творчество стало известно парижскому обществу, а парижское общество интересуется художественными произведениями, лишь поскольку оно знакомо с самим художником. Приходилось искать связей, если он хотел кормиться уроками, которые мог получить только в домах мещан и филистеров.
А потом, у каждого ведь есть сердце; и сердце помимо нашей воли привязывается; оно находит, к чему привязаться, в какую бы среду ни попало; и если бы не привязывалось, не могло бы жить.
В числе других учениц Кристоф давал уроки дочери богатого автомобильного фабриканта, Колетте Стивенс. Отец ее был выходец из Бельгии, сын обосновавшегося в Антверпене англо-американца и голландки; мать — итальянка. Настоящая парижская семья. Для Кристофа — да и для многих других — Колетта Стивенс олицетворяла собой тип французской девушки.
У этой восемнадцатилетней девицы были черные бархатистые глаза, которыми она нежно поглядывала на молодых людей; зрачки, как у испанки, заполнявшие всю орбиту влажным блеском; чуть длинноватый капризный носик, который она, когда говорила, слегка морщила с задорными гримасками; растрепанные волосы; неправильное, но смазливое личико, с неважной запудренной кожей и простоватыми пухленькими щечками и губками, напоминавшее мордочку надувшегося котенка.
Миниатюрная, прекрасно одетая, обольстительная, дразнящая, с жеманными, вкрадчивыми, деланно наивными манерами, она разыгрывала из себя маленькую девочку и часа по два раскачивалась в качалке, восклицая что-нибудь вроде: «Нет! Не может быть!..»
За столом она хлопала в ладоши, когда подавали ее любимое блюдо; в гостиной курила папиросу за папиросой, при мужчинах прикидывалась, будто нежно любит своих подруг, — бросалась им на шею, ласково гладила им руки, шептала что-то на ухо, говорила наивности, а иногда и колкости, преискусно-нежным и слабеньким голоском; при случае она этим же голоском как ни в чем не бывало умела сказать и большую непристойность, а еще лучше — вызвать на непристойность своего собеседника, и все это с самым простодушным выражением паиньки-девочки, поблескивая томными, с тяжелыми веками, плутоватыми глазами, лукаво косясь по сторонам; она подстерегала все сплетни, подхватывала любую двусмысленность, вечно старалась поймать на удочку чье-нибудь сердце.
Это глупое кривлянье, эти щенячьи ужимки, эта деланная простоватость ни в малейшей степени не прельщали Кристофа. Ему было не до уловок развращенной девчонки, они даже не забавляли его. Ему нужно было зарабатывать себе на хлеб, спасать от смерти свою жизнь и свои замыслы. Все эти салонные попугайчики интересовали его лишь постольку, поскольку они доставляли ему средства к существованию. Они платили ему, а он за деньги обучал их добросовестно, наморщив лоб, ничем не отвлекаясь; он решил не поддаваться ни скуке этих уроков, ни поддразниванью своих учениц, когда попадались кокетливые, вроде Колетты Стивенс. И самой Колетте он уделял не больше внимания, чем ее маленькой двоюродной сестре, молчаливой и застенчивой девочке тринадцати лет, воспитывавшейся у Стивенсов, которой он также давал уроки.