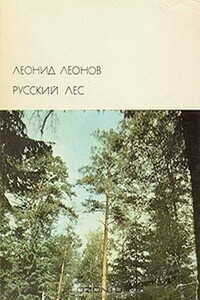Стряхнув начинавшую овладевать им сонливость, Кристоф посмотрел в программу и был очень удивлен, когда увидел, что эти клочковатые туманы, проползавшие по серенькому небу, притязают на изображение конкретных сюжетов. Ибо, наперекор теориям, эта чистая музыка почти всегда была программной или, по крайней мере, сюжетной. Как ни поносили эти люди литературу, они и шагу не могли сделать без литературных костылей. Странные костыли! Кристофа поразила причудливая наивность избираемых композиторами сюжетов. Фруктовые сады, огороды, курятники, музыкальные зверинцы — настоящий зоологический сад. Некоторые транспонировали для оркестра или для рояля картины из Лувра или фрески из Оперы; перекладывали на музыку Кейпа, Бодри, Паулуса Поттера,>{99} в пояснительных примечаниях говорилось, что здесь представлено яблоко Париса, там — голландская харчевня или круп белой лошади. Все это казалось Кристофу игрой взрослых детей, которых интересуют только картинки, и, не умея рисовать, они усердно и как попало марают свои тетради, наивно крупными буквами подписывая под своей мазней, что вот это — дом, а это — дерево.
Наряду с этими слепыми рисовальщиками, которым уши заменяли глаза, имелись также философы: они разрабатывали в музыке метафизические проблемы; их симфонии были борьбой отвлеченных принципов, толкованием какого-нибудь символа или догмата веры. И они же в своих операх брались за разрешение злободневных юридических и общественных вопросов: декларации прав женщины и гражданина. Они не теряли надежды взяться за музыкальное изложение таких вопросов, как развод, установление отцовства, отделение церкви от государства. Они разбились на два лагеря: символистов антиклерикальных и символистов клерикальных. В их операх выступали тряпичники-философы, гризетки-социологи, булочники-пророки, рыбаки-апостолы. Уже Гете говорил о художниках своего времени, «воспроизводивших идеи Канта в аллегорических картинах». Современники Кристофа излагали социологию в восьмых и шестнадцатых. Золя, Ницше, Метерлинк, Баррес, Жорес, Мендес, Евангелие и «Мулен-Руж» — все это пополняло водоем, откуда черпали свои мысли авторы опер и симфоний. Многие из них, опьяненные примером Вагнера, восклицали: «Я тоже поэт!»>{100} — и самонадеянно подписывали под своими нотами рифмованные и нерифмованные вирши в стиле христоматий для начальной школы или декадентских стишат в литературных приложениях.
Все эти мыслители и поэты были ревнителями чистой музыки. Но они больше любили говорить о ней, чем писать ее. Впрочем, иногда им случалось кое-что написать. И получалась музыка, которая ничего не желала выражать. К сожалению, это нередко удавалось: такая музыка действительно не говорила ровно ничего, — по крайней мере, сердцу Кристофа. Правда и то, что он не владел ключом к ней.
Чтобы понимать иностранную музыку, нужно взять на себя труд изучить ее язык, отрешившись от мысли, будто знаешь его заранее. Кристоф же, как всякий истый немец, считал, что уже владеет им. Не будем слишком к нему строги! Ведь многие французы сами понимали этот язык не лучше Кристофа. Подобно немцам эпохи Людовика XIV, которые столь усердно изощрялись во французской речи, что под конец совсем забыли родной язык, французские музыканты XIX века настолько разучились говорить по-французски, что французская музыка стала для них чужеземной грамотой. Только совсем недавно началось движение, ратовавшее за то, чтобы во Франции говорили по-французски. Однако не всем это удавалось, привычка укоренилась слишком глубоко: за исключением очень немногих, французская речь французов звучала по-бельгийски или же сохраняла немецкий душок. Естественно поэтому, что немец впадал в заблуждение и со свойственной ему самоуверенностью заявлял, что это плохой немецкий язык, не означающий ровно ничего, — ибо он, немец, ничего в нем не понял.
Кристоф же полагал, что и понимать тут нечего. Французские симфонии казались ему отвлеченной диалектикой, в которой музыкальные темы противопоставлялись одна другой или следовали друг за другом наподобие арифметических действий, — для обозначения их комбинаций можно было бы с таким же успехом пользоваться цифрами или буквами алфавита. У одних произведение строилось на последовательном развертывании определенной звуковой формулы, которая, выступая в законченном виде только на последней странице последней части, оставалась в зачаточном состоянии на протяжении девяти десятых вещи. Другие загромождали тему вариациями, и она появлялась лишь в конце, нисходя понемногу от усложненности к простоте. Это были очень замысловатые игрушки. Забавляться ими могла лишь глубокая старость и раннее детство. Изобретателям своим они стоили неслыханных усилий. Годами вынашивалась какая-нибудь фантазия. Не один композитор поседел в поисках новых комбинаций аккордов, чтобы выразить… не все ли равно, что? Выразить новую выразительность. Как наличие того или иного органа создает соответствующие потребности, так и выражение в конце концов всегда порождает мысль; самое существенное — чтобы она была новой. Нового, нового, какой угодно ценой! Они испытывали болезненный страх перед «уже сказанным». Даже самые талантливые были парализованы этой болезнью. Чувствовалось, что они все время с тревогой следят за собой, вымарывают написанное, терзаются, спрашивая себя: «Ах, боже мой, где я уже слышал это?» Есть композиторы, — особенно много их в Германии, — которые только тем и заняты, что склеивают чужие фразы. Во Франции, наоборот, сочинив фразу, композитор проверяет, не встречается ли она в каталоге уже использованных другими мелодий, и скоблит, скоблит бумагу, меняет форму своего носа, до тех пор, пока он не перестает быть похожим на все известные ему носы и даже на нос вообще.