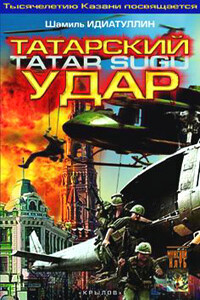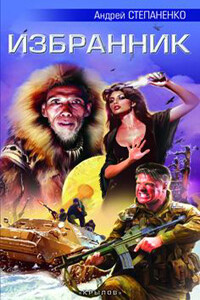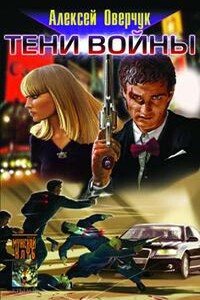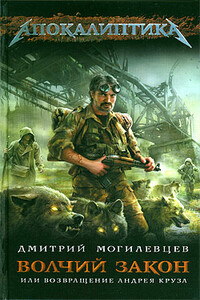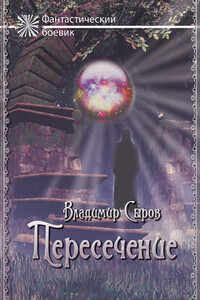— Дура, — сказал Павел, — дура. Куда ты меня повезешь с такой дырой от пули в брюхе? Ментам здешним сдашь?
— Нет-нет, я найду, ты только не вздумай умирать, я найду, как же я без тебя, господи, что же делать-то?
— Только не реви. Всю жизнь мечтал подохнуть под бабий рев.
— Что мне делать? Что?
— Меня пристрелить, отъехать подальше и помолиться, чтобы все было хорошо.
— Ведь как я без тебя, а? Мы же и его не нашли? Что делать-то, а?
— Сволочь, — сказал Павел.
— Я не хотела, извини, надо было бензином, я знаю, — залепетала Нина.
— Ты тут ни при чем. Дерьмо. Вот что, — он ткнул пистолетом Нине под нос, — сейчас ты пойдешь и возьмешь пистолет, тот, из бардачка. Поняла?
Нина, как сомнамбула, пошла к машине, достала пистолет, вернулась, стала рядом с Павлом на Колени.
— Приставь ко лбу, — скомандовал Павел.
— Не нужно, — сказала Нина.
— Хочешь, чтобы я подыхал в соплях, чтобы корчился и вопил, как недорезанная свинья? Ты этого хочешь? Чтоб я в ментовском подвале подыхал от перитонита?
— Но что потом со мной будет? Мне куда деваться?
— Куда хочешь. Я свое уже по дерьму отползал. Хватит. А тебе еще придется. Ну, я считаю до трех. На счет «три» ты стреляешь, ты поняла? Раз, два, три… Ты что? Считаю еще раз. Если не выстрелишь, на счет четыре я выстрелю сам.
Нина подождала, пока он, хрипя, скажет «три», и нажала на крючок.
И от этого весь огромный, отравленный жарой и пылью мир сложился и рухнул, как карточный домик, оставив ровную, серую, безразличную пустыню.
Она аккуратно положила пистолет ему на грудь. Села в машину, чувствуя себя очень маленькой, пустой и вялой, будто резиновая кукла. Завелась и поехала.
Стемнело. Она долго ехала по ночной дороге, поворачивая наобум. Кончился асфальт, она поехала куда-то вверх, по врезанному в склон горы серпантину, по какому-то лесу, через ручей, завязла в грязи, выбралась, но на втором ручье все-таки застряла, прямо посредине. Когда открыла дверь и попыталась выйти, ее чуть не смыло. Она повисла на дверце, подтянулась, забралась на машину. Прыгнула с капота. Поскользнулась. Ухватившись за камень, выбралась на берег. Пошла куда-то в темноту, наугад. Дорога под ногами исчезла, началась тропа. Нина шла долго, спотыкаясь, падая, раздирая о камни руки. Было очень холодно. Временами она начинала разговаривать с собой, спорить и доказывать, что все прошло хорошо, что они не ошиблись, и нужно только переждать, все пойдет прекрасно, вот увидишь, никаких слез, конечно, я не буду плакать, пустяки, конечно же, какие пустяки, это просто царапина, ты нюни распустил, а мы вернемся, вот увидишь, мы вернемся. Еще она плакала, утирала слезы ладонью и хохотала, а отсмеявшись, плакала снова.
На рассвете ее нашли пастухи, перегонявшие наверх, к высокогорным пастбищам, скот. Она совсем закоченела, тряслась от холода и стучала зубами. Русского они почти не знали, а в ответ на то немногое, что они могли спросить, она заливалась истерическим смехом, а потом навзрыд заревела. Ее попытались успокоить, накинули на плечи куртку, усадили на коня — она не сопротивлялась. Ее отвезли наверх, на летовку, отдали женщинам. Она покорно позволяла себя кормить, ухаживать за собой. Но молчала. Когда ее расспрашивали, смеялась. Как-то раз увидела торчащий в колоде топор. Подбежала, выдернула его, — все шарахнулись в стороны. Женщина, сбивавшая масло, визжа, бросилась прочь, опрокинув ступу. Нина оглянулась по сторонам, держа топор в левой руке, положила правую кисть на колоду, неуклюже размахнулась, — но мужчины уже бежали к ней, отняли топор, схватили, отвели к женщинам. Она заплакала. Плакала она три дня подряд.
Весь кишлак обсуждал, кем она могла быть, что с ней, как сюда попала и что делать. Застрявшую поперек потока «Ладу» к полудню, когда ручей вздулся от талой воды с ледников и стал грохочущей рекой, развернуло, поволокло и сбросило вниз, с обрыва, заклинило между камней, сплющило, измяло падающими с водой камнями. Перекореженный остов увидели сверху, но к нему и подобраться пило трудно, не то что вытащить. Многие, надеясь поживиться, в малую воду пытались залезть под водопад, но добраться до машины никто так и не смог.