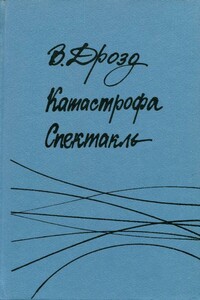…А затем — «странная» и сильная, горько-лекарственно полезная по воспитательному своему смыслу повесть «Одинокий волк», яростное и психологически сложное (композиционно, пожалуй, и переусложненное) разоблачение «растиньяковских», завоевательно-карьеристских, потребительско-агрессивных мотивов и «стилей поведения» иных наших современников, увы, не исчезнувших до сей поры, не исчезающих, как могло казаться прекраснодушным моралистам, запросто, автоматически, вместе с социально-экономическим продвижением общества вперед. Люди, подобные Андрею Шишиге, не раз являлись нам в литературе о современности. Начитанный читатель легко и сам припомнит соответствующие «параллели» — подскажу только — у Гранина, Тендрякова, Трифонова, в «Царь-рыбе» Астафьева, в романах и повестях литовских, грузинских, конечно же, и украинских прозаиков — «до» и «после» В. Дрозда (например, сходный «шишига» действует в недавнем сильном романе Ю. Мушкетика «Вернись в дом свой»). Но почему все-таки у В. Дрозда так прямо: Шишига? Автор не зря прибегает к этимологически-значимым фамилиям персонажей. «Шишига» — у древних славян, да и посейчас в иных русских и украинских говорах, означает нечто вроде нечистого, чертяки, злого наваждения (кстати, и Шуляк — в разговорном украинском — «коршун», и «харлан» напоминает «харлань» — оборванец, так сказать, выскочка, рвущийся из грязи в князи…). Повесть «Одинокий волк» — воплощенная химера. И по характеру главного персонажа, и по сюжету, и по стилю. Злое наваждение, Шишига, «с волчьей жадностью к жизни» пробудившийся растиньяк, который «не любит, а только берет», «вовкулака»-оборотень разоблачается здесь поверх бытового сюжета, на исходе которого он посрамлен, но в общем-то не повержен, сюжетом фантасмагорическим: превращением реального службиста Андрея Шишиги сначала в волка во сне, в галлюцинацию, а затем как бы уже и в реального, не иносказательного волка, во шерсти и крови, так сказать. Рискованным был замысел (и я вижу некоторые расходящиеся «швы» в его исполнении), и все же стилевая двуплановость такого рода, смелая эта «химерность» оказалась оправданной и эстетически в принципе осуществилась.
…Третья повесть — «Баллада о Сластионе» — совсем иного, гротескно-юмористического, ироничного склада. Будто в насмешку она: баллада. Да о ком же эта «баллада навыворот»? — бурлескная традиция снижения высоких жанров идет в украинской литературе еще от бессмертной «Энеиды» Котляревского. Она повествует о «деяниях» напыщенного дурака Сластиона (слово означает: лакомка, сладкоежка, сластолюбец и т. п., а еще — и «род оладий»!). Сей Сластион поистине «мусор на чистой воде», забыл про столярничанье, про дело, которому единственно и был обучен, он до одури, до опупения верит в свою «начальническую» миссию, грезит о трибунах, президиумах, портфелях начальницких (в нем хоть топорище носи, важно, что портфель несешь на людских глазах!), о служебных телефонах и «прикрепленных» машинах — словом, о вещах, значимость которых вовсе не заключена в них самих… Однако же сатирик-иронист, автор веселых «небылиц» в народно-юмористическом духе, Владимир Дрозд вполне суровый реалист, и потому его Сластион, хоть и помешался на бюрократических соблазнах, однако же и дефицит из-под прилавка себе умеет добыть, и ворованными материалами на строительстве собственной дачи пользуется. Где-то он дурак, Сластион, а где-то еще и хам, еще и подхалим, еще и «тонкий» игрок на струнах человеческих слабостей, и все это уместилось в цикле о Сластионе, цикле, рассказываемом чаще всего лицами, у которых собственное рыльце тоже так или иначе в пушку, — отсюда убеждающая целостность произведения; это цикл, построенный по принципу «рыбак рыбака видит издалека», только Сластион дан крупно-сатирично, по-своему монументально, а «окружение» его — юмористическими блестками…
Но мы начали разговор о единстве нравственного отношения автора к своему предмету.
Вот тут оно и проявляется. Всякий раз по-своему, никоим образом не одинаково, и всякий раз родственно. Источник «лучей» — в одном центре, в одном пункте.