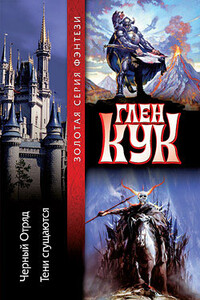Они застали мародеров за устройством стоянки. Их палатки походили на сидящих на земле птиц, вот-вот готовых взлететь. Ограда из колючего кустарника защищала от львов. Это была даже не битва, а стычка с обычными мальчишками-рутулами (неужели они сражались с Ахиллом? Наверное, даже не знали, как его зовут!). Троянцы разгромили их в одно мгновение, за которое можно лишь опустить парус или повесить на стену щит.
– Отец! – позвал Асканий, поднимая забрало шлема и ища Энея. – Отец, мы быстро разделались с ними. И без единой потери.
Юный Мелеагр, брат Эвриала, подошел к нему и встал РЯДОМ, бледный и молчаливый.
– Что, Мелеагр?
– Твой отец…
– Ранен?
– Убит.
– Как?
– Ножом в бок. Я не видел, кто ударил его.
На молодом лице глаза старика. Он видел смерть, угнетающую своей бессмысленностью. Эвриал и Нис погибли во время войны с Турном.[43] Мелеагр, тогда ему было шесть, помнил их головы, насаженные на колья.
– А его тело?
– Унесла река.
Темнело. У них не было факелов. Где-то совсем рядом начинался Вечный Лес. Глупо и бесполезно искать тело в этих зарослях, населенных дриадами, после наступления темноты.
– Надо отнести раненых в город. Утром я найду его.
* * *
Всю ночь Асканий слышал плач женщин, то превращающийся в резкие вскрикивания, то затихающий и переходящий в тихие стоны. Голос Лавинии выделялся среди хора голосов ее служанок. Кто-то, кажется Мелеагр, принес ему настой из маковых головок.
– Он поможет тебе уснуть.
– Сон – короткая смерть. А в моей жизни их и так достаточно.
Рассвело. Серые каменные стены, отделанный деревом мегарон, мазанки – все окрасилось утренней зарей и стало мраморно-розовым. Асканий дернул за ремень, на который запиралась дверь в комнату Лавинии, находящуюся в помещении для женщин. Она лежала на складной кровати, по кирпичному полу были разбросаны клочки шерсти вперемешку с ее отрезанными и вырванными волосами. Женщины, сгорбившись, сидели вокруг кровати, как сидят собаки рядом со своим больным хозяином. Асканий разглядывал комнату, стараясь отодвинуть тот момент, когда придется посмотреть на Лавинию и произнести слова сочувствия, а не презрения. Стул с тремя ножками, сундук из ароматного кедрового дерева. Висящая на вешалке грязная накидка. Ткацкий станок с натянутой на нем основой, рассчитанной на женский рост, а рядом веретено, ручная прялка и чесаная шерсть. Ивовая корзина на колесиках, полная разноцветной пряжи. Асканию никогда не нравилась эта комната. Он любил свою – с подставкой для копий у двери, со щитом из волчьей кожи на стене. После того как построили город, он заходил сюда лишь дважды и каждый раз думал: «Лавиния сидит, сгорбившись у своего ткацкого станка, как мастеровой у печи для обжига. А станок Меллонии, наверное, приводится в движение ее пением, и из шерсти она ткет золотое полотно».
Лавиния смотрела на него покрасневшими от слез глазами Трудно было поверить, что двенадцать лет назад она была застенчивой, хорошенькой девушкой, отчаянно хотевшей выйти замуж за предводителя троянских изгнанников, который сражался с Ахиллом и пировал с Геленом.[44] Эней не смел отказать ей. Это означало бы разорвать союз с Латином, потерять друзей в Италии и не построить Лавинии. Он жалел ее, пытался полюбить, был неизменно вежлив и никогда не говорил с ней о Меллонии, только с сыном.
– Я иду искать тело, – сказал Асканий.
Она молчала и смотрела на него, будто осуждая за то, что он не обрезал волосы и не плакал. Действительно, горе его было спрятано глубоко внутри, как вода в промерзшем ручье. Он превратился в одну из безмолвных теней, которым не дано переправиться через Стикс и которым суждено вечно блуждать по преисподней.[45]
Возможно, когда он найдет тело отца, то опустится рядом с ним на погребальный костер и горе его обретет дар речи, в то время как языки пламени будут окутывать его объятиями забвения и душа его поспешит следом за душой его отца.
– А если ты не найдешь его?
– Найду.
Как быстро латинянки грубеют и утрачивают стройность! Какими скучными они становятся с их кухонными разговорами о ценах на шерсть и хлеб, с пересудами о служанке, забеременевшей не от мужа. Даже в их скорби есть что-то животное. Он вспомнил Андромаху,