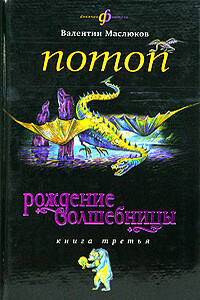— И заметьте, как просто! Ни слова лишнего!
— Зазиркин! Здрасте вам: Зазиркин! — весело озиралась Надя. — Господа, я собрала вас, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам прибыл гений. Инкогнито.
Надя смеялась. Сочувственное возбуждение Генриха убеждало ее, что она не ошиблась в тоне, хотя, может быть, и зря вопреки предупреждению помянула гения.
Надя посмеивалась, приглашая всех и каждого присоединяться к веселому трепу, но отчего-то уже и насторожилась. Она удивилась, когда обнаружила, как сильно, всем существом увлекающегося художника Генрих откликнулся на ее не лишенные лукавства замечания.
Чалый не видел газету и не понимал, о чем вообще речь, но ничему не удивлялся. С хладнокровием много всего испытавшего в искусстве и много передумавшего человека он не удивился бы даже и гению. Если бы таковой нашелся. Он верил, что существует немало талантливых никому не известных и закопавших себя людей. Он верил в талант и в скромность, как верят в редкую, известную по рассказам птицу.
На лице Куцеря, униженного самым предметом разговора, неумеренными восторгами по поводу какой-то дранной газеты, играла кривая ухмылка.
Колмогоров глотал лекарство.
— Сердце? — негромко спросил Чалый.
Колмогоров кивнул и запил таблетку глотком кофе.
— Может, воды?
— Гадость, — коротко, не желая распространяться, отозвался Колмогоров.
— А кофе? Кофе с таблетками. Ничего?
— Стимулирует. Наоборот, стимулирует.
Чалый покачал головой, но спорить не стал.
— Вячеслав, вы прочли? — обратился Новосел к Колмогорову.
Колмогоров полез в стол и достал вырезку — сложенный газетный лист с рассказом.
— Читал, — признал он наконец коротко.
— Вам не понравилось? — насторожился Генрих.
— Мне не понравилось.
Неприятно пораженный, Генрих держал возвращенную газету, как бы раздумывая, какое ей найти применение. Надя отлично Генриха понимала: равнодушная реплика балетмейстера горела у нее на щеках, как пощечина.
— Да ведь это, посмотрите, Феллини! — запальчиво воскликнула она. — Вы — творческий человек! Неужели вы не увидели?
Непривычная в этих стенах дерзость заставила всех смутиться.
— Это ж кино! Современное образное мышление! Вот это там: когда выходят на площадь. Все так увидеть — Феллини! — горячилась, не встречая возражений, Надя. — Уж это вы могли бы оценить — образное мышление?!
— Не люблю чернуху, — против ожидания вяло возразил Колмогоров.
— А вы, значит, как: искусство принадлежит народу?! — сказала Надя, подавшись вперед, чтобы убийственный шепот ее достиг ушей Колмогорова.
Колмогоров свел челюсти и потемнел, словно собравшись ответить резкостью, но промолчал. Он, казалось к общему недоумению, не находил слов.
— Всё имеет право на существование, — возразил он наконец как-то академически. — Мне это не близко. Вот и всё. Можно отдавать должное таланту и не принимать его.
— А что такое талант? Вы ж так и не сказали мне, что такое талант!
Колмогоров пожал плечами:
— Талант, между прочим, это созвучие…
— Чего с чем? — опять сорвалась Надя.
— Созвучие — способность создать мелодию из того, что чувствуют люди, — пояснил Колмогоров и, запнувшись, добавил: — Но звучит, впрочем, и ночной горшок. Тоже резонаторная емкость.
— Ночной горшок? — ошеломленным эхом откликнулся Новосел.
— А вы что: предпочитаете благонамеренную бездарность? — выпалила Надя.
Ее заносило. В душе она, конечно, помнила, что дерзит одному из самых влиятельных людей искусства, помнила и уже сейчас знала, какими невинными словами будет рассказывать потом приятельницам о своей потешной храбрости.
— Пустой разговор, — замкнулся Колмогоров.
Наступило молчание. Надя звякнула ложечкой в чашке, где осталась одна гуща. Колмогоров глянул на забытого посреди кабинета артиста, которого пора было отпустить.
— Может, и правда, ночной горшок… — протянул Новосел, преодолевая себя.
— Генрих, — оборвал его Колмогоров, — я что попрошу: займите гостью, покажите театр, мастерскую, а я — всё. Через двадцать минут репетиция.
Мгновение Генрих смотрел, будто не понимая. А Надя, наоборот, вскочила.
— Вячеслав Владимирович, — виновато сказала она на прощанье. — Я все напишу, как вы сказали.