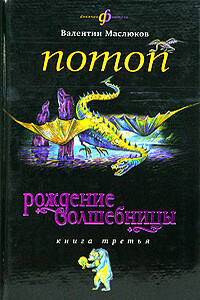Все, что было неделю назад, подернулось туманом. Она как будто не помнила. С некоторым внутренним напряжением она встретила в коридоре Колмогорова и бесцветно, без выражения поздоровалась. Он ответил вежливо, даже сердечно и замялся что-то добавить. Но не добавил. Надо было понимать так, что никогда уже и не скажет.
Потом она столкнулась с Генрихом, которого бессознательно избегала. Тот шумно обрадовался.
Вечером, после репетиции, Аня поднялась к Генриху в мастерскую.
Напротив входа стояла на мольберте картина. Затиснутая в узкое полотно зеленая женщина с густым черным лоном.
— Почему она зеленая? — Аня оглянулась на Генриха, который за ней наблюдал.
— Цвет не имеет значения, — быстро отозвался он. — Важны оттенки.
Аня вернулась к картине. Она не понимала, плохо это или хорошо, потому что не имела других критериев, кроме своих ощущений. Ощущение же говорило ей только то, что от этой изломанной женщины нельзя просто так отмахнуться. Как нельзя отмахнуться от темных неясностей жизни.
Она знала, что Генрих ждет замечания по существу, и знала, что в таких случаях говорят, растягивая: интере-есно… Однако она удержалась, не стала поминать интерес, а решила составить общий обтекаемый комплимент позднее, когда посмотрит другие картины, — из тех, что стояли на шкафах и у стены.
Казалось, автор многократно переходил из одного творческого периода в другой. Менялась тональность, степень проработки деталей и, вероятно, техника — хотя об этом Ане трудно было уже судить. Представлены были тут вполне традиционные портреты и пейзажи, оставлявшие впечатление добросовестно исполненных упражнений, — ранний период художника. Имелись намеренно раздробленные сюжеты, которые перекладывали труд воображения на зрителя. Картины не только другой манеры, другой, казалось, руки, но, другого, мнилось, и века. Были тут опять же заглаженного письма химеры, уроды и уродства в невероятных нагромождениях и сочетаниях. Но и то, и другое, и третье — ничто не задерживало Аню, не давало ей случая остановиться и помечтать. Мешал к тому же и взгляд Генриха, который она встречала, мельком оглянувшись. Без чувства же, не отдаваясь свободно ощущениям, она не понимала картины. «Человек-выставка», внезапно подумала она. И сразу же усомнилось, что Генрих поймет эти слова как комплимент. Если уж она сама их так не понимала.
— Ты театральный художник. Театральный. Ты прекрасно с Колмогоровым… спелся, — сказала она.
Он ответил напряженной улыбкой. Замечание задело его.
— У тебя чувство сцены, чувство объема… Я думаю, есть театральный художник, а есть… Как в балете: есть характерный танцовщик, а есть классик, и там без отточенной техники…
— Ага! — сказал он, прерывая дальнейшие объяснения.
Но она продолжала:
— Был у меня молодой партнер, Балашов, мы с ним номер готовили. Я никогда и ни с кем так не вращалась — совершенно свободно. И умница, начитанный мальчик. Он меня никогда ничем не обидел. И я ему говорила: но танцор, Костя, ты никудышный. В классическом танце. А в джазе, на эстраде он на месте.
— Поучительная история! — возразил Генрих нетерпеливо. — Но как ты это себе представляешь: театральный художник?
— Не знаю, — сказала она. — В театре ты на месте.
— Да? А в цирке?
Она отлично понимала скрытое раздражение, возбуждавшее его реплики. Это раздражение удивляло ее — чего так злиться? И в то же время она чувствовала удовлетворение, получив возможность его позлить.
— Что ты создал на сцене — лучшее. Лучше всего этого. Не знаю почему так.
— Выше головы прыгнул?
— Дело в том, — сказала она с приятной уверенностью в себе и пластичным жестом, играя пястью, очертила мастерскую, — что на всё сразу человека не хватает. Это разве гений может, чтобы и то, и это…
Он хмыкнул.
— Может — не может… кого это волнует. Твои личные проблемы. Великая актриса — тебя я имею в виду, да — должна быть и великой танцовщицей. И то, и это. А если великая актриса прихрамывает как балерина…
Она хотела было возразить, но промолчала. И с бьющимся сердцем продолжала обход мастерской. Колкости и двусмысленные комплименты, на которые сбивался разговор, не доставляли ей удовольствия. Но она помнила, она ощущала кожей, чувствовала затылком, что это Генрих Новосел. Незаурядный мужчина, который тревожит и нервными своими замашками, и нервным разговором. И который глядит на нее сейчас взглядом художника. Нельзя было оставить это все просто так, без логического завершения. Чего-то такого, во всяком случае, что она могла бы признать за логическое завершение.