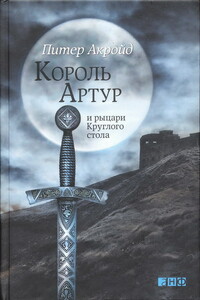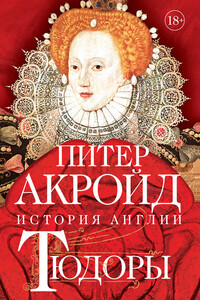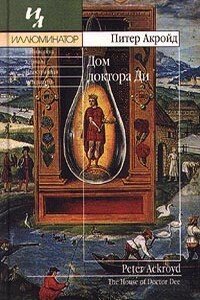Анатоль Франс пишет, что в Риме на саркофаге одного христианского мученика высечена надпись: «Если кто нарушит покой этой гробницы, пусть этот грешник умрет из своих людей последним». Я изведал всю тяжесть этого проклятия – но и удивительное освобождение, которое оно несет с собой. Теперь мне пора спать. Я странно отрешен от того, что пишу, как будто пером водит чужая рука, образы рождаются в чужом воображении. Скоро придется просить Мориса за мной записывать; без сомнения, он исказит мои последние часы до неузнаваемости, и тогда преображение станет полным.
Он читает мне Бальзака, но говорит, что ничего не понимает. Я предлагаю ему выпить бренди с содовой, что вызывает у него преувеличенный энтузиазм. Сейчас, когда моя собственная жизнь бесконечно от меня далека, меня влекут к себе шумные улицы и запущенные дворы бальзаковского воображения. Образы прошлого приходят и обступают меня, даруя покой.
Морис говорит, что ему нет дела до «старых книжек», но я сказал ему, что Бальзак – единственный по-настоящему современный французский романист; по его ласковому взгляду я тут же понял, что он мне не верит. Я объяснил ему, что идея прогресса – сущая нелепость: никакая эпоха не заслуживает предпочтения, и посмотри – даже я вновь превратился в ребенка. «Открою тебе секрет, – сказал я. – Я говорил уже, что мы живем в варварский и жестокий век. Так вот, следующий век тоже будет варварским, и следующий, и следующий».
Все происходит одновременно: вот Данте идет в изгнание; вот Августин проповедует на базарной площади в Тире; вот отрок увлекает Самсона на небо. В Лувре есть портрет молодого человека с печальными глазами, кажется принца. Я хотел бы взглянуть на него еще раз перед смертью. Я хотел бы вернуться туда, в это прошлое, войти в сердце другого человека. В миг преображения, когда я буду и собой и кем-то еще, буду принадлежать и своему и иному времени, – в этот миг Вселенная откроет мне свои тайны.
Из Англии приехали Робби и Мор. Реджи появится завтра – вот три всадника моего апокалипсиса. Я сказал им, что, если они будут хорошо себя вести, я поделюсь с ними хлоралом – он неплохо действует в сочетании с шампанским. Похоже, они думают, что я просто-напросто притворяюсь умирающим и завтра утром, как дозорный, отправлюсь совершать свой обычный обход Бульваров. Я объяснил им, что мы со Смертью в очень хороших отношениях; она твердо рассчитывает посетить меня и каждый день оставляет новую визитную карточку.
Я уговорил Робби вывести меня из комнаты. Кажется, это было вчера вечером. Необъяснимым образом я почувствовал себя лучше. Далеко мы не поехали; фиакр отвез нас на улицу Ренн в маленькое кафе, где экстравагантные танцовщицы выпрашивали на «кружечку пивка». Я, должно быть, слишком уж погрузился в созерцание, и Робби спросил, не дурно ли мне. Я ответил, что это не дурнота, а восхищение. Кому захочется покинуть мир, в котором встречается такое. «Ты еще увидишь, что я теперь напишу», – сказал я. Тут я не выдержал и заплакал. Меня отвезли обратно и уложили в кровать.
Морис согласился за мной записывать. Я сказал ему, что работа будет необременительная и уж наверняка недолгая; он отвернулся и теперь смотрит в окно. Боль невыносима – в голове словно клубок змей. Никакой де Куинси в своих опиумных кошмарах не страдал так, как я.
Слова Оскара Уайльда, записанные Морисом Гилбертом.
Принеси шампанского, он говорит, молодец Доктор поставил ему пиявки на виски но он их не чувствует
Я хочу, чтобы ты взял себе одну вещь, это он мне говорит, у меня есть гравюра с изображением Фауста, сгорбившегося за письменным столом, на заднем плане скелет, телескоп и зеркало, может быть, ты по этому описанию найдешь ее Морис Теперь заснул
Он проснулся в хорошем настроении Когда я умру «Таймс» может быть отведет мне три дюйма под немецким армейским офицером думаешь уютно мне там будет? Смеется своим звонким смехом. Спрашивает меня о кладбище Пер-Лашез куда я ходил с господином Россом Когда трое или четверо собираются вокруг могилы