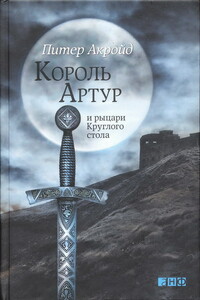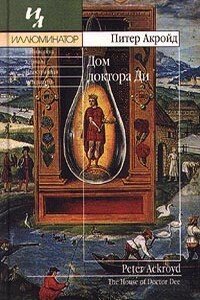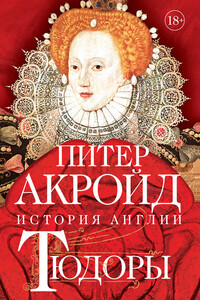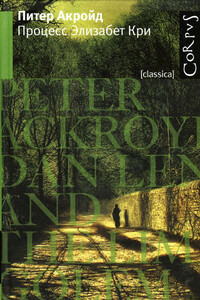Порой я встречал его у Малларме на улице де Ром. Я прекрасно помню свой первый визит туда – воистину это смахивало на спиритический сеанс. Прослышав, что я еду в Париж, Уистлер попытался было восстановить Малларме против меня – смешной человек. Когда стало ясно, что Малларме, этот мэтр поэзии, этот чародей слова, конечно же, будет рад меня видеть, Уистлер послал ему телеграмму: «WILDE VIENDRA CHEZ VOUS. SERREZ L'ARGENTERIE» [57]. Я придал черты Уистлера одному из своих персонажей. Когда я ему об этом сказал, он вообразил, что это лорд Генри Уоттон. Я же имел в виду Замечательную Ракету.
Тот первый вечер у Малларме прошел для меня довольно успешно. Мой французский, как мне говорили, звучит несколько вычурно и литературно, но в компании равных я чувствовал, что меня понимают с полуслова; думаю, если бы я и вовсе сидел закрыв рот, я все равно был бы понят. Малларме был бесконечно учтив и доброжелателен, говорил медленно, как и пристало поэту, но произносил слова с необыкновенной отчетливостью. Тогда только-только были опубликованы «Contes cruels» [58] – сейчас их только-только начинают читать, – и я помню, с каким восторгом говорил мне Малларме об этой чудесной книге, в которой собраны «les tristesses, la solitude, les deboires» [59]. Его голос был подобен дальнему звуку колокола.
Тихая неспешная речь, темная, богато украшенная мебель – все это действовало на чувства, приводя их в странное оцепенение, в котором только Искусство и его сокровища казались стоящими внимания. Там был и румяный Флобер с усами викинга. Очень характерно, что он восхищался Калибаном. Во многих великих художниках меня поражала внешняя незначительность – казалось, они не сознают собственного величия. Флобер писал чрезвычайно холодно, и это такой холод, который жжет пуще любого огня, – именно так средневековые мистики представляли себе объятия дьявола. Но послушаешь его – мясник, да и только. Я часто думаю, какие великие произведения я создал бы, будь моя любовь к искусству сильнее любви к славе и успеху. Я готов повторить слова Андреа дель Сарто из чудесного стихотворения Браунинга:
Ах, если б я был в двух обличьях,
Я и не я, – тогда б весь мир был наш!..
[60]
Вышло же так, что моя личность погубила творчество – вот неискупимый грех моей жизни. Даже в первые парижские месяцы пристрастие к славе и роскоши отвлекало меня от истинных творцов, у ног которых я должен был бы сидеть, ловя каждое слово. Вместо этого я жил в фиакрах и ресторанах; меня чествовали в салонах баронессы Деланд и принцессы Монакской, этой странной сирены без голоса и уж точно без всякого острова. Я провожал Сару Бернар от ее уборной до самой сцены, и сладко-пьянящий запах успеха, весь этот пурпур и злато влекли меня к себе неудержимо. В обществе поэтов и художников часть моей души как бы бездействовала; отмеченный судьбой, я стоял от них особняком. Но с Сарой мы были равны, и я воображал, что могу, как она, покорить весь мир; пышные приемы, обеды, роскошная жизнь знаменитости – вот к чему я всей душой стремился.
В те дни я делил свои восторги с Робертом Шерардом – молодым англичанином, с которым я познакомился на одном из обедов. Он выглядел падшим ангелом; за прошедшие с тех пор годы он, разумеется, пал окончательно и пытается увлечь за собой друзей. Но тогда его переполняли великолепные мечты, и так как он вдобавок был великолепно юн, он произвел на меня сильное впечатление.
Однажды я рассказал ему, что три моих любимейших литературных персонажа – это Жюльен Сорель, Люсьен де Рюбампре и я сам. Как де Рюбампре, я хотел «d'etre celйbrй et d'кtre aimй» [61], и, как Сорель, я в тоске порой вопрошал: «Pourquoisuis-je rnoi?» [62] Я очень хорошо помню одну вечернюю прогулку с Робертом по набережной Сены, когда я взахлеб рассказывал ему о последних часах Сореля в тюремной камере – о том, каким туманом слов он был окутан, о том, что в отчаянные предсмертные минуты он слышал внутри себя одни только обрывки фраз из любимых книг, сформировавших его характер. Люсьен повесился, Жюльену отрубили голову. «Но говорю вам, Роберт, – заявил я, – то были не жизни, а жития святых».