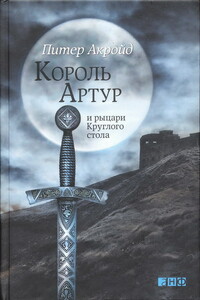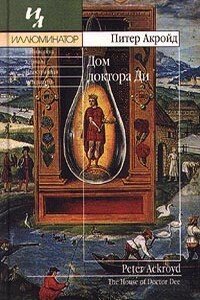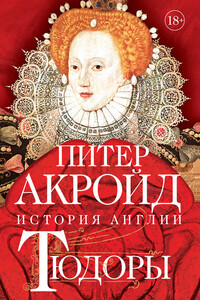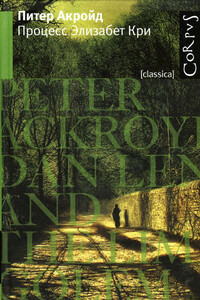И хотя тогда я мало что почувствовал – на меня сыпалось столько ударов, что я словно оцепенел и стал неспособен к новому страданию, – теперь это помогает мне кое-что понять. Становление личности – таинственная вещь, и все же можно разглядеть темную нить, которая тянется сквозь всю мою жизнь и берет начало в моем необычном появлении на свет. Незаконнорожденный должен творить себя сам, он должен стоять прямо, даже когда вокруг бушует ураган. И я понимаю теперь, почему я так жаждал хвалы и почета, хотя прекрасно знал, что слава и овации – суета сует. Мне стало ясно, почему общепринятые ценности были нужны мне только для того, чтобы смеяться над ними или пародировать их, почему я искал убежища в изнурительной, разрушающей нервы работе и в том словесном тумане, что окутывает меня постоянно. Признание матери лишь подтвердило то, о чем судьба нашептывала мне всегда: мое место – среди отверженных.
В 1871 году я поступил в дублинский колледж Троицы. Мне тогда было только семнадцать, но я уже чувствовал себя орлом, запертым в клетку с воробьями. Это была, в сущности, та же школа, и недовольство своим положением усугублялось у меня ощущением пустоты и усталости, которое я всегда испытываю, когда вокруг не звучит смех и меня не окружает внимание ярких собеседников. И хотя я был очень юн, я изрядно приуныл. Мне казалось, что я брошен в тюрьму – правда, впоследствии выяснилось, что сравнение было не таким уж точным.
Мой наставник Махаффи говорил со мной о греческом, но не без деликатных умолчаний. "Читайте Платона ради его словесного блеска, – советовал он мне. – Ради философии можете, если хотите, читать диалоги Пикока [23], но у Платона учитесь тому, как театрализировать устную речь и творить из беседы высокое искусство". И я по ночам громко декламировал «Федона». Я переводил Аристофана, и он получался похожим на Суинберна. Я читал Суинберна и воспринимал его как пародию. Я скептически относился ко многим из авторов, которых нам приходилось изучать. Прохладная афористичность Вергилия и глупая рассудительность Овидия раздражали меня; я испытывал отвращение к трескучей похвальбе Цицерона и скучной серьезности Цезаря. Зато я по достоинству оценил звучную африканскую латынь Апулея и сухие сжатые фразы Тертуллиана, писавшего и проповедовавшего во времена бесчинств Элагабала. Но больше всех заинтересовал меня Петроний – его «Сатирикон» открыл мне новые изгибы чувственности. Меня не тянуло самому их изведать; достаточно было знать, что они существуют.
Дублин становился все более гнилым и жалким. Мать пристрастилась к алкоголю и, пытаясь это скрыть, по вечерам спешила пораньше уединиться у себя в комнате. Сэр Уильям разрушал свое здоровье каторжной работой и закрывал глаза на пагубную привычку жены. Он хотел, чтобы я прошел в колледже Троицы полный курс и остался там преподавать – тогда я по сей день читал бы лекции об Эвменидах вместо того, чтобы претерпевать их кару, – но я отказался наотрез. Я жалел сэра Уильяма, как жалеешь тех, кого жизнь поймала в западню, но вовсе не жаждал разделить его судьбу.
Так что можете представить себе мою радость, когда через три года я был удостоен стипендии и отправился в Оксфорд. Я пережил переезд как откровение: из царства средневековой набожности я перенесся в мир эллинского свободомыслия. Это был мой личный ренессанс. Я мигом освоился в незнакомой обстановке. От огня университета зажглась и моя душа, хотя поначалу она горела судорожными вспышками. Еще больше, чем знаний, я жаждал дружбы и в первые месяцы находил ее где только мог. В колледже Магдалины было немало славных, дружелюбных ребят, и с иными из них мы, весело беседуя, засиживались далеко за полночь.
– Оскар, что ты собираешься делать в жизни? – мог спросить кто-нибудь из них.
– Делать? Да ничего я не хочу делать. Я хочу быть.
– Уши вянут тебя слушать.
– Что ж, если честно – я хочу быть папой римским.
– Зачем тогда ты строишь из себя великого грешника?
– А я первым делом отлучу себя от церкви.
– Сдастся мне, что ты будешь школьным учителем. По лицу видно.