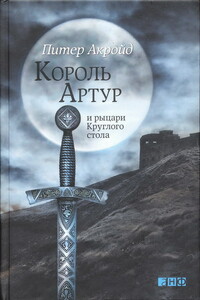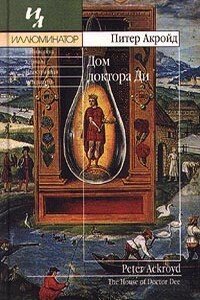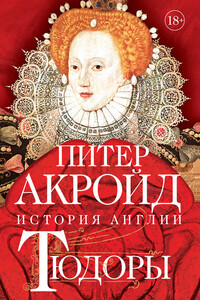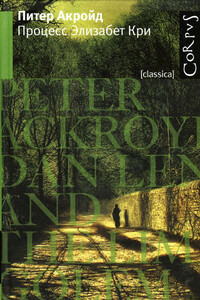Ведь именно он пять лет назад закрыл перед посетителями дверь лондонского дома моей матери, у которой я нашел пристанище в промежутке между процессами: он не хотел позволить друзьям утешить меня. Когда мать уходила в свою комнату, он, по своему обыкновению, грубо напивался и принимался задавать мне возмутительные вопросы личного характера – получались настоящие сцены из Ибсена. Но его уже нет в живых, и если о нетленности его души еще можно спорить, нетленность тела ему обеспечена: проспиртовано оно на славу.
У Вилли была еще одна причина для неприязни ко мне – моя любовь к нашей младшей сестре Изоле. Она умерла, когда мне было двенадцать. Мы часто играли вместе. Я изображал перед ней мать, вытягивая шею и вращая глазами. Я рассказывал ей истории, вся прелесть которых заключалась для меня в том, что она верила каждому моему слову. Когда она умерла, я испытал такое страшное горе, что удивился самому себе. Она была единственным человеком в моей семье, любовь к которому не стала для меня источником стыда или смущения. С ее смертью любовь во мне тоже умерла: горе сотрясает человека, как лихорадка, и оно же приводит его в оцепенение. Я помню, как мать повела меня в ее спальню попрощаться с ней. Об ощущении полного отчаяния говорят, что его потом невозможно вспомнить, – вот и я не в силах описать свое тогдашнее состояние. Могу только сказать, что я как будто смотрел на мир с огромной высоты. Моя память все еще хранит ее неясный образ – лицо порой возникает передо мной, как моя собственная детская фотография.
Муж моей матери сэр Уильям Уайльд был человеком в высшей степени разочарованным. И он не знал ни минуты покоя – время было его коварным врагом, которого нужно было подчинить себе, скрутить, как кровожадного тигра. Без видимой причины он иногда бросался вон из дома и быстрыми шагами устремлялся прочь; выбегая вслед за ним, я видел его фигуру, удалявшуюся по Уэстланд-роу. Но уже через пять минут он возвращался с выражением сильнейшей радости на лице и тут же скрывался в библиотеке. Будучи человеком крайне неопрятным, он имел привычку сморкаться, прижимая к одной ноздре палец. За столом он то и дело принимался чистить ногти на скатерть старым гусиным пером, которое всегда носил в кармане пиджака.
Когда я однажды пожаловался на него матери, она рассмеялась.
– Ничего страшного, Оскар, – сказала она, – не обращай внимания.
– Но как же так: доктор – и такой неряха?
– Такой уж он человек, Оскар; а доктор он хороший.
– Неужели пациенты не жалуются?
Я не знал тогда, что о нем действительно идет дурная слава, но не из-за неряшества, а из-за распущенности. Мать строго на меня посмотрела, и я ретировался наверх.
Сэр Уильям по-настоящему становился самим собой, лишь когда мы переезжали в Мойтуру; там он целыми днями копался среди диковинных каменных нагромождений, которые в этих западных краях напоминают остатки какой-то жуткой исчезнувшей цивилизации. Порой он нехотя брал в свои вылазки и меня; он казался мне тогда выходцем из страны эльфов, жаждущим вернуться в это свирепое королевство. Однажды мы нашли старинный кельтский крест, и он пустился вокруг него в пляс, вне себя от восторга. Мы вернулись с добычей домой – это был первый крест в моей жизни и, увы, не последний, – но экономка Энни преградила нам путь, встав на пороге. Не подобает, сказала она, переносить с места на место священные камни. Сэр Уильям всегда уважал людские суеверия, так что мы отнесли крест на берег озера Лох-Корриб. Но его воодушевление было столь велико, что, когда мы возвращались в Дублин, он завернул крест в тряпки и оберточную бумагу и взял с собой в поезд. Я всю дорогу молился о том, чтобы не произошло крушения. С той поры я всегда испытываю необъяснимое волнение при виде почтовых пакетов: каждый раз ждешь чего-нибудь из ряда вон выходящего и каждый раз обманываешься. В этом отношении они напоминают современные романы.
Однажды сэр Уильям взял меня с собой в поездку по озеру на остров Аранмор – в глухие места, усеянные обломками скал, где люди живут в странных хижинах, похожих на ульи. Сэр Уильям умчался далеко вперед, а провожатый тем временем рассказывал мне, как год назад одного его сына похитили эльфы. Он лежал с мальчиком в одной постели, ему не спалось, и вдруг он почувствовал, что под окном кто-то есть; тут раздалось верещанье эльфов, их набежала целая толпа. Утром он увидел, что ребенок мертв. Сочетание чудовищности самой истории и жизнерадостного тона рассказчика-крестьянина глубоко меня поразило: судьбу не объедешь – значит, остается над ней смеяться. Конечно, в то время я счел рассказ выдумкой, но теперь, когда я уже наполовину мертвец, я все больше и больше склонен верить во все темное и сверхъестественное. Поверья прекрасны своей простотой – а я пришел к пониманию того, что жизнь – простая, до ужаса простая штука.