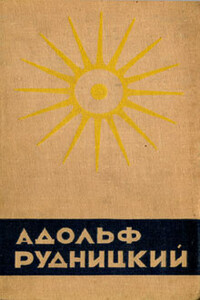– Что, не выходит каменный цветок? Ну-ка, дай я. Сбоку там подстрахуй. – Я рывком подняла Артема за шиворот, Майка подползла ему под руку, и мы повели его, как раненого бойца, вдвоем.
– Девчё-о-онки, я вас люблю, – не открывая глаз, сладким пьяным голосом нудил Артем.
Дома мы посадили его на бортик ванны, но он не удержался и свалился внутрь.
– Надо его раздеть, – сказала Майка.
– Обойдется. А, ботинки возьми. – Я стянула с него ботинки и подала ей. – Иди, Май. Я его сейчас воспитывать буду.
– Думаешь, поможет? – Майка опустила глаза.
– Нет. Но так – еще хуже.
Майка вышла. Я взяла душ, открыла холодную воду на полную мощность и стала поливать Артема.
– Ты что?!! Ты сдурела?!! – Артем закрывался руками, пытался отбиваться и через три минуты почти протрезвел.
Потом я кричала на него, хлестала по щекам. Знала – не поможет, конечно, не поможет, но надо было его хотя бы разозлить, не дать скатиться в это блаженненькое пьянство совсем.
Так прожили зиму. Я – злым следователем. Не извинялись друг перед другом ни за что – ни за грубость и хамство, ни за очередные пьянки. Все было понятно.
Майка пробовала справляться одна, но Артем совсем забуянил. Когда она поднимала его, уговаривала, отталкивал:
– Уйди… ты… шрифтовичка… Что ты понимаешь?
– Вот что. Давай-ка я его заберу на пару недель, – сказала я Майке.
– Как собаку? – горько усмехнулась она.
– Май, сопьется.
Несколько недель я не спускала с Артема глаз, ходила за ним, как конвой, заставляла работать, не давала пить.
Мы страшно ругались, орали друг на друга. Я понимала, что он злится на себя, но решила – пусть лучше выплескивает злость скандалами, чем глушит водкой. А к весне у него пошло, он много писал, и все лучше и лучше, и чувствовал от этого видимое облегчение.
– Слушай, какой п…ц, какой п…ц, а? – Артем смотрел на мой портрет, который писал. Все стены в доме были завешаны моими портретами и его автопортретами – так он расписывался заново.
– По-моему, нормально.
– А? Нет, я не об этом. Оно же того не стоит, Гло… Эта мазня не стоит пьянства, и этой б…ской беспросветности, ни на секунду… Я думал, что подохну… Бабу свою обидел… А я ее люблю, ну, ты знаешь… Ради чего? Ради этого? – И он тыкал кисточкой в холст.
– Так все искусство проклятое, чего уж. Ти толко болшэ так нэ дэлай, да? Видишь – прошло. Всегда проходит.
– А у тебя так было?
– Ну.
– А ты чего?
– Как все. Чуть не подохла.
Конечно, этим дело не кончилось. Артем, как всякий человек, выходящий из долгого алкогольного клинча, стал противным, капризным, все время придирался к Майке.
Вроде бы ничего особенного, но во всем, что он делал или говорил, была такая изуверская нотка, легкий флер садизма.
Я беспокоилась. Майка – маленькая решительная женщина – никак не годилась для этих темных игр. Она не была безответным ягненочком и никому бы не позволила сделать себя жертвой. Даже Артему.
Но помочь-то я все равно ничем не могла, как уж сами разберутся, каждый человек, как известно, сам п…ц своего счастья.
На меня навалилась куча дел – последний, преддипломный год, а допуск к диплому еще надо было получить, да еще у меня выходил первый спектакль (я как-то незаметно переползла из живописцев в театральные художники), и куча всяких халтур, и я все лето не поднимала головы.
Ребята пытались вытащить меня на юг, но я не смогла поехать, дела не пускали, и к началу осени чувствовала себя Элизой, все довязывающей рукав из крапивы даже на тележке палача.
Последние августовские дни оказались пустыми. Я не могла поверить – как? Всё? Все розовые кусты высажены, чечевица отделена от гороха? Не может быть!
Но на бал не хотелось. Я валялась целыми днями, как алюминиевая ложка, и если бы не Тарасик, вовсе бы не выходила из дома.
Артем вернулся с юга загорелый, исхудавший, как дворняга, бодрый, вошел (у него был ключ от моей квартиры), оценил разруху в доме и мой жалкий вид.
– А ну вставай!
– Привет, Артюша. А где Майка?
– А, они на Мангупе зависли… Все… Вставай давай!
– У тебя глаза бегают.
– Ничего у меня не бегает, – вконец обозлился он. – Вставай, или я сейчас сам тебя встану!
– Я не могу, Артюша. Если бы ты знал, как я зае…лась.