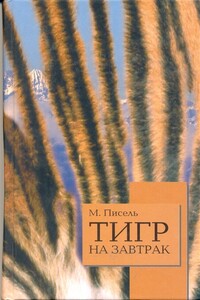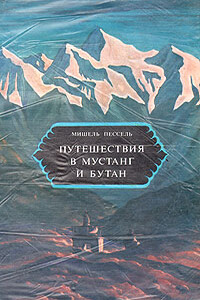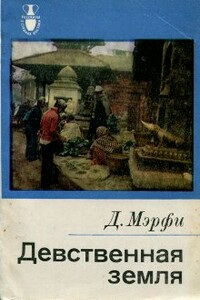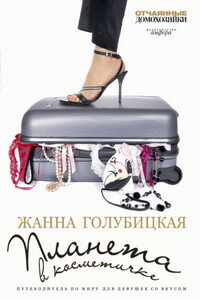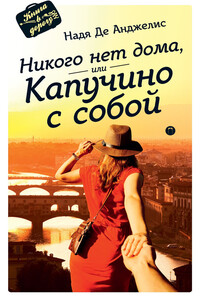Как завороженный, рассматривал я сотни задубелых и обожженных солнцем лиц, и каждое из них светилось энергией. Они с таким же любопытством разглядывали меня и обменивались комментариями о моей персоне. Я услышал замечания о странности моей одежды, о длине моего носа, о моих светлых глазах и лысине, чрезвычайно редкой вещи в Гималаях. Меня всегда удивляло, почему у тибетцев не выпадают волосы даже в весьма преклонном возрасте.
Теперь я лучше представлял себе заскарский «тип» населения. В среднем они выглядели мельче ладакхцев, у них были более широкие лица и резко выраженные монголоидные черты. В этом, вероятно, сказывалось этническое влияние Тибета, а также меньшее количество дардской крови, чем у жителей Ладакха. Такое мое мнение подтверждается и небезызвестными «Заскарскими хрониками» — единственным известным документом, посвященным истории Заскара. Он был записан в 1908 году благодаря стараниям местного ученого, посланного в Заскар миссионером доктором А. Франке, одним из пионеров изучения истории Ладакха и Западных Гималаев. Это рукопись из неполных двух страниц, в которой главным образом перечисляются доходы монастыря Пхуктал, расположенного в Восточном Заскаре, и рассказывается о его истории.
Автор манускрипта пишет:
«Во времена своего основания Заскар подчинялся Кашмиру. Когда крепость Дрангце (на севере Ладакха) была захвачена кхампа (тибетцами), целая туча людей и лошадей пересекла весь край. В отместку вооруженная армия напала на владения Гугэ, и тогда все крепости Заскара были преданы пламени, а многие жители убиты. Их сменили люди, пришедшие из других мест, и край снова ожил».
По-видимому, долина, издавна населенная дардами и находившаяся под владычеством Кашмира, была опустошена и заселена тибетцами во время большой тибетской экспансии в середине VIII века. Это могло бы объяснить более «тибетский» облик заскарцев по сравнению с обитателями других гималайских районов — долины Суру или долины Инда.
Грубо говоря, есть два типа тибетцев: круглолицые, приземистые и худощавые люди с удлиненным лицом. Будучи весьма общим, это различие помогает разобраться во множестве этнических групп тибетского происхождения. Заскарцы несомненно принадлежат к первому типу.
Как и откуда они пришли? Ответ на этот вопрос я рассчитывал найти во время своего путешествия. Смогут ли оба князя, если согласятся принять меня, дать вразумительное объяснение по этому поводу? Кроме того, хотелось разобраться в их истинной роли в этом необычном княжестве.
Во время церемонии я заметил, что лохмотья племянника моего хозяина резко выделяются на фоне теплой и добротной одежды других детишек. Я решил купить ему платье, а вернее, ткань, необходимую для пошива, поскольку готовой одежды в Заскаре нет.
Необходимое количество ткани рассчитать легко. Снимается лишь одна мерка — длина руки. Затем в штуке ткани шириной двадцать пять сантиметров откладывается тридцать этих мер.
Я сообщил всем, что хотел бы купить ткань, и вскоре крестьяне принесли в дом Наванга несколько рулонов ткани. Мне так и не удалось выяснить, почему здесь ткачеством занимались исключительно мужчины, ведь в большинстве стран этот труд не считается мужским. Может быть, это связано со сложностью ткацких станков, на которых они работают? Все ткани, которые я видел, отличались друг от друга. Они были плотными или редкими (в первом случае их обязательно начесывали).
В конце концов я выбрал рулон, длина которого раз в тридцать превосходила длину ребячьей ручонки. Мне хотелось доставить ребенку радость; я надеялся, что теплая одежда избавит мальчика от простудных заболеваний. Мой подарок был оценен выше, чем если бы я дал деньги, а малыш был растроган до слез. Должен признаться, что вначале цена ткани удивила меня, но потом, узнав, что изготовление пряжи и одного рулона ткани требует нескольких месяцев работы, понял, что высокая стоимость материи была вполне оправданна.
Меня немного заботило быстрое уменьшение наличных денег. В Заскаре не было банка, и мои чеки не имели никакой ценности. Я должен был уложиться в ту сумму, что привез с собой. Все мое состояние — десяток пачек новеньких купюр, каждая достоинством в две рупии, и несколько более крупных банковских билетов; разменная монета здесь встречается редко, а люди настолько не доверяют бумажным деньгам, что отказываются брать засаленные или потертые бумажки. У меня образовался приличный по объему пакет купюр, но это не шло ни в какое сравнение с двенадцатью килограммами серебряных монет, с которыми я скитался по Гималаям во время моего первого путешествия в 1959 году. Тогда крестьяне брали лишь звонкую монету.