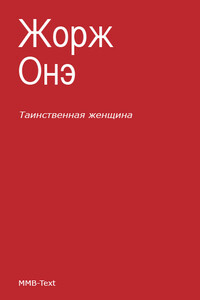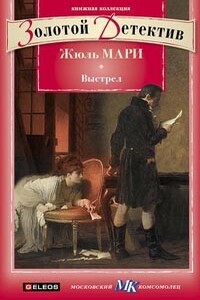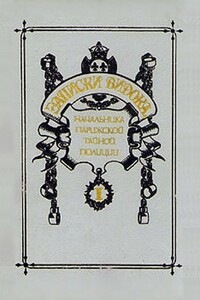— Смотри, пожалуй, завещание! Но что я вижу? «Моему сыну…»
— Ну, уж ему-то не достанется. Я об этом позабочусь.
— А, брачный контракт!
— Ее собственный, конечно!
— Гм! — произнес Пьенуар, прочитав. — Вот что любопытно! «1814 года 10 июня были соединены в здешней ратуше Жозеф-Гектор де Кандас…»
— Сын Андре Реми де Кандаса, мы это знаем, — сказал Фигас.
Генрих, услышавший эти слова, вздрогнул.
— Да, но смотри дальше. — И Пьенуар указал пальцем на имя невесты.
Фигас смутился.
— Поистине, — проговорил Пьенуар, — довольно странно! Неужели эта Жуанита…
— Нет-нет, — воскликнул Фигас, — не может быть! Я пьян, и ты тоже, черт возьми! Прочтем снова.
— Ну, читай сам, — возразил Пьенуар, — видишь? «…И Жанна Мария Фигас, незаконная дочь Жана Пьера Фигаса, негоцианта из Марселя, и Юлии Софии Дано, уроженки Сетты».
Тогда Фигас, бросив взгляд на ту, которую он только что убил, вскочил:
— О! Я подлец! Я убил свою дочь! Моя Жанна, моя маленькая Жанна!
— Это была моя мать, — простонал Генрих, заглушая рыдание.
— Умерла! Умерла! — повторял Фигас, склонившись над трупом и проронив жгучую слезу.
— Не шуми так, — заметил Пьенуар, — все твои сожаления ни к чему не приведут.
— Кто знает, пожалуй, еще можно вернуть ей жизнь!
— Ну, нет! У тебя рука верная.
— Меня преследует сама судьба!
— Ну, полно, ты же видишь, что все кончено! Захватим добро и уйдем отсюда!
— Но я не могу так оставить мою бедную дочь…
— К черту ее, и не будем больше о ней говорить.
— Ах так, значит! — закричал Фигас, хватаясь за нож.
— Сделанного не вернешь, — заметил Пьенуар, подбирая золото.
Видя, что он собирается уходить, Фигас бросился к двери, запер ее изнутри, бросил ключ на улицу и встал перед своим сообщником со словами:
— Можешь уйти тем же путем, каким пришел.
— Ты с ума сошел!
— Да, от злобы и отчаяния! — проревел Фигас, сверкая глазами.
— Уж не хочешь ли ты на меня напасть?
Вместо ответа Рабуин бросился на него. Пьенуар едва успел отразить удар. Спрятавшийся Генрих с ужасом смотрел на этот ожесточенный поединок. Фигас, не помня себя, снова бросился на Пьенуара, который, владея собой с большим хладнокровием, схватил за руку своего противника и, притянув к себе, вонзил ему нож в самое сердце. Последний вздох Рабуина был страшным проклятием, и он упал почти на труп своей дочери.
— Наконец-то! — произнес Пьенуар. — Я избавился от него и от нее. Теперь шкатулка принадлежит мне!
В это время Генрих наблюдал за всем через слуховое окно на чердаке. Пьенуар со своей драгоценной ношей медленно взбирался по воздушному мосту. Когда он был уже на полпути, кто-то крикнул: «Стой!»
Услышав этот возглас, Пьенуар остолбенел. Однако, собравшись с духом, он спросил:
— Кто там?
— Я, Генрих де Кандас!
Это имя было для него словно удар.
— Наконец-то ты в моих руках, негодяй! — крикнул маркиз торжествующе.
Испуганный Пьенуар выпустил шкатулку, чтобы спрыгнуть на окно и за него ухватиться, но Генрих отвязал лестницу, и бандит упал с самого верха на улицу.
Видок замолчал; драма кончилась. За исключением жаргонных выражений, от которых я избавил как себя, так и читателя, все это было записано мной, так сказать, дословно, и, несмотря на невероятность некоторых подробностей, я нисколько не сомневаюсь в истинности фактов. Я и теперь будто слышу голос знаменитого полицейского, вижу его жесты и физиономии каторжников… Жуанита и кабак «Черное солнце» часто тревожили мой сон.
Похождения Видока в Лондоне
Некоторое время спустя доктор Дорнье рассказал мне подробности о Видоке, которого, несмотря на всю его ловкость, наконец проучили. Однажды, страдая от безденежья, он решился отправиться в Лондон и там привлечь публику своей репутацией и именем. Видок пересек Ла-Манш, устроился на Пикадилли, расклеил афиши и привлек к себе внимание всей аристократии. Гримируясь по очереди старухой, солдатом, сестрой милосердия, человеком из высшего общества и в совершенстве разыгрывая свои роли, он менял голос, рост, осанку, лицо. Потом, по окончании представления, он позволял любопытствующим касаться руками своих аксессуаров: цепей, замков, кинжалов и даже самого ножа гильотины, к великому удовольствию чувствительных лордов и леди. И представьте только: эти гордые лондонские аристократы приходили в такой восторг, что охотно принимали в своих салонах его, Видока, каторжника, в салонах, где он с неподражаемым совершенством изображал представителей Директории и большого света.