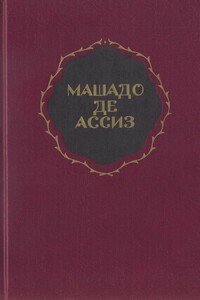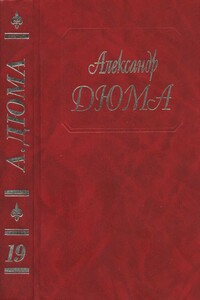Отец был разъярен, — впрочем, не слишком; ярость его скоро прошла. Я молча слушал его, не возражая, как прежде, когда он говорил мне о своем намерении отправить меня в Европу; я надеялся взять с собой Марселу. Я пошел к ней, рассказал о постигшем меня ударе и предложил уехать. Марсела слушала меня, глядя перед собой, и не отвечала; я стал настаивать; она сказала, что остается в Рио.
— Но почему же?
— Я не могу дышать европейским воздухом; я там задохнусь. Я слишком хорошо помню моего бедного отца, загубленного Наполеоном, — жалобно проговорила Марсела.
— Которого отца — огородника или адвоката?
Марсела нахмурилась и принялась сквозь зубы напевать сегидилью[35]. Потом, сказав, что ей жарко, велела служанке принести бокал алуа[36]. Черная рабыня принесла его на серебряном подносе, купленном в свое время на мои деньги, — вспомним одиннадцать тысяч рейсов. Марсела любезно предложила мне отведать прохладного напитка; но я в сердцах оттолкнул поднос, бокал опрокинулся, алуа пролилось на платье Марселы, негритянка вскрикнула, и я велел ей выйти вон. Оставшись наедине с Марселой, я излил все негодование, все отчаяние, накопившееся в моем сердце. Я говорил ей, что она чудовище, что она никогда меня не любила, что из-за нее я был вынужден совершать низости; я оскорблял ее; я как безумный метался по комнате. Марсела продолжала сидеть, неподвижная, холодная, словно мрамор; она лишь слегка постукивала ногтями правой руки по зубам. О, как мне хотелось задушить ее или, по крайней мере, унизить, бросить на пол, топтать ногами! Однако вышло по-другому; я сам бросился к ее ногам, я покрывал их поцелуями, умоляя простить меня; я говорил о месяцах нашего счастья, я называл ее прежними ласковыми именами; я сидел на полу, прижавшись головой к ее коленям, схватив ее за руки; я задыхался, бредил, я со слезами на глазах просил ее остаться со мной… Марсела пристально посмотрела на меня, какой-то миг мы оба молчали, потом легко высвободилась и, зевнув, сказала:
— Ты мне надоел.
Она поднялась, отряхнула все еще мокрое платье и направилась к дверям своей спальни.
— Нет! — завопил я. — Ты не уйдешь; я не позволю… — Я бросился к ней, но было поздно — она вошла в спальню и заперлась на ключ.
Не помня себя, я вышел на улицу; битых два часа бродил по самым пустынным, самым глухим закоулкам города, в которых я мог не опасаться встретить кого-нибудь. С болезненным наслаждением предавался я отчаянию; мысленно переживал дни, часы, минуты страсти и то тешил себя надеждой, что очнусь от кошмара — и счастье будет длиться вечно, то, обманывая себя, пытался представить сладостные воспоминания ненужным хламом, который легко будет выбросить. Наконец я принял решение немедленно сесть на корабль, отплыть в Европу и начать новую жизнь; мне приятно было воображать, как Марсела, узнав о моем отъезде, будет мучиться угрызениями совести и тосковать обо мне. Ведь она все-таки любила меня, должны же остаться у нее хоть какие-нибудь чувства, помнит же она об этом офицере, Дуарте… Но тут клыки ревности вонзались мне в сердце. Все существо мое возмущалось, требуя, чтобы я увез Марселу с собой.
— Силой… силой… — говорил я вслух, взмахивая кулаками.
Наконец мне в голову пришла спасительная идея…
Трапеция, злосчастная трапеция, пристанище невероятных планов! Спасительная идея уцепилась за нее, подобно идее пластыря (глава II). Марселу нужно пленить, ослепить, увлечь, заинтересовать, нужно пустить в ход более убедительные доказательства, чем простые слова. Не задумываясь о дальнейшем, я в последний раз взял в долг; побежал на улицу Ювелиров и купил самую лучшую драгоценность, какая нашлась в Рио-де-Жанейро, — три крупных брильянта, вправленных в испанский гребень слоновой кости, — и побежал к Марселе.
Она полулежала в гамаке; вид у нее был усталый, томный; одна ножка в шелковом чулке свисала, касаясь пола. Волосы были распущены, взгляд выражал покой и сонливость.
— Ты поедешь со мной, — сказал я, — у меня есть деньги… много денег. Ты получишь все, что хочешь. Смотри.
Я протянул ей брильянтовый гребень. Марсела слегка встрепенулась, приподнялась, опершись на локоть, и посмотрела на принесенный подарок; через минуту она отвела глаза; ей удалось взять себя в руки. Тогда я бросился к ней, собрал ее волосы, наскоро соорудил фантастическую прическу и скрепил драгоценным гребнем; отступил назад, словно художник, снова приблизился, поправил пряди ее волос, подобрал их с одной стороны, спустил с другой, стараясь внести в этот хаос подобие симметрии; мои движения были исполнены материнской ласки.