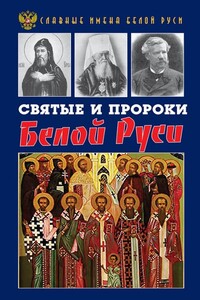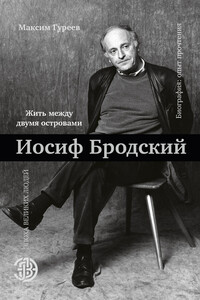«Почему они потеряли человеческий облик?» — думал я.
На постоялом дворе были люди всякого звания и общественного положения в прошлом.
Здесь я встретил студента-медика Казанского университета, некоего Сергея Николаевича — человека невысокого роста, хлипкого сложения, со светлой жиденькой бородкой. И глаза у него были серенькие, невыразительные. Весь он был какой-то мягкий, ходил тихо, незаметно. Носил студенческую форму из синего диагоналя, студенческую фуражку. Тужурка никогда не расстегивалась, под ней не было белья. Наступили холода, а он оставался в летнем, ходил весь съежившись. Лекций в университете не посещал. Он вызывал во мне жалость. И несмотря на все это, я смотрел на него как на бога. Шутка ли сказать — студент!
Хозяйка брала уроки и за это подкармливала его.
... До боли мне было жаль в ту пору одну женщину. Молодая, лет двадцати пяти, не больше, она появилась в нашем дворе, обратив на себя внимание всех. Высокого роста, стройная, с темно-карими глазами, обрамленными черными ресницами. Трезвая, она держалась с достоинством. Тогда в ее глазах стояла тоска, ярко-красные и полные губы выражали брезгливость. Одета она была не в пример жителям Мокрой улицы просто, но со вкусом. Пьяная, она плакала. Как мне хотелось, чтобы она выбралась на дорогу. Но неотвратимо она опускалась на дно. И некому было ее спасти. Постепенно ее хорошая одежда превратилась в тряпье, все чаще появлялась она на улице пьяной и, наконец, стала, как и многие, уличной девкой.
На Мокрой улице я почти не видел радостных лиц, не слышал смеха. Но горя тут было хоть отбавляй.
В то время я наивно думал, что все несчастья людей происходят только от пьянства.
Сам я питался плохо: черный хлеб и картошка, а когда кончался привезенный из деревни картофель, я переходил на один черный хлеб с водой.
Три рубля из деревни я получал не всегда. Из них за место на нарах нужно было отдать по 3 копейки в день. За два фунта хлеба в сутки по 7 копеек, да еще надо было выгадать на учебники и письменные принадлежности. Бывали дни, когда совсем нечего было есть, я голодал.
Несмотря на такие лишения, я не падал духом. Учился, ходил в городскую библиотеку, любил книги. И ни разу не болел. Сказались деревенская закалка и занятие физическим трудом с детства.
Учился я хорошо. Наш класс состоял из учеников разных возрастов (от 20 до 35 лет). Многие были женаты, служили на пароходах на командных должностях, имели детей. Большинство из зажиточных семей. Одетые с иголочки в форму речного училища со светлыми пуговицами, в шинелях от лучших портных, они сторонились меня.
Но зато отношение ко мне начальника училища М.В. Черепанова было отеческим. Он преподавал «Навигацию». В каждый свой урок вызывал меня к доске, показывая этим, что следит за моими успехами. Я боготворил его.
М.В. Черепанов любил отмечать выпуски учеников торжественно. Обычно на эти торжества приглашались пароходовладельцы. В 1907 году присутствовал почетный шеф училища, миллионер, владелец многих пароходов и барж, хлеботорговец, купец первой гильдии Землянов. Лицо у него было грубое, неотесанное и бородатое. Говорить он не умел, сильно заикался, однако выступил с речью, в которой было немало оскорбительного для учеников. Надо было видеть тогда М.В. Черепанова! Он стремительно вышел на середину залы. В отличие от Землянова, он умел говорить. Но теперь он говорил особенно горячо.
Он хлестко тогда отчитал миллионера.
Однажды он останавливает меня в коридоре и спрашивает:
— Элеш! Вы бывали когда-нибудь в опере?
— Нет! — ответил я смущенно.
— Вот вам билет на «Пиковую даму», от Марии Васильевны. Непременно посмотрите! — сказал он, подавая мне билет.
Мария Васильевна — жена М.В. Черепанова — была добрейшей души человек. Высококультурная, с демократическими взглядами на жизнь, она немало помогала ученикам и заслуженно пользовалась уважением всех.
Билету я был очень рад и сердечно поблагодарил Михаила Васильевича. О «Пиковой даме» я не имел никакого представления. Надо сознаться, что даже слово «опера» для меня тогда было новым словом.
В театре я испытывал неповторимые чувства. Попасть из чувашской деревни в такой театр, как Казанский, было равносильно открытию нового сказочного мира. Я был буквально потрясен всем виденным: прежде всего люстрой, огромной люстрой, что свисала с потолка и сверкала тысячами огней, отраженных в прозрачном хрустале; величественной сценой, красоту которой мой ум воспринимал как чудо; артистами и публикой, непохожими на меня. Все происходящее в театре я остро переживал. Сидя в четвертом ярусе театра (всех ярусов пять), очарованный, я не смел пошевелиться.