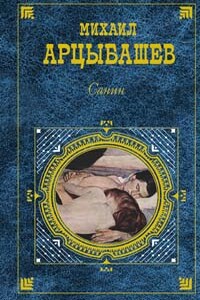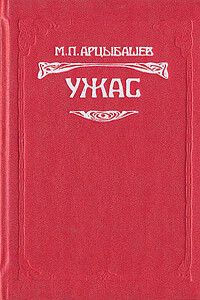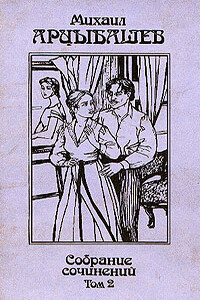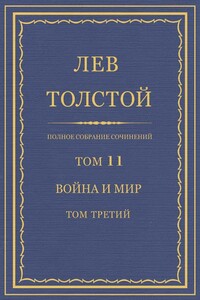Мало кто знает его, имя Башкина не займет в литературе большого места. Талант у него был небольшой; вся прелесть его заключалась в том, что сам Башкин был милый, кроткий, искренний до глубины души, хороший человек. Эти личные качества отражались в его работе, как голубое небо в чистой воде, и придавали его маленькому таланту своеобразную, задумчивую прелесть.
Когда-нибудь, если я исполню одно из своих желаний- оставить широкую картину из жизни тех, которых судьба определила быть солью земли, ловцами человеков и которые сделали из литературы вертеп мелких жуликов, — я дам в романе и тип Башкина, верный той светлой памяти, которая осталась во мне о нем. Теперь лицо его еще слишком близко, мелочи воспоминаний мелькают перед глазами слишком пестро. И слишком ярки передо мной три картины, три момента его смерти и похорон, которым обобщения я еще дать не могу.
Я не видал Башкина около года. Одна и та же болезнь у обоих разбросала нас по разным углам. И только за день до его смерти мы увиделись в последний раз.
Когда я вошел в комнату, Башкин спал: под морфием, странным и страшным сном. Кто-то держал свечу, и желтый свет пятнами колебался на потолке и стенах со странным рисунком обоев. Почему так поражает иногда какая-нибудь мелочь? А я помню, что с жутким чувством посмотрел на эти обои; вокруг всей комнаты, в странных и грубых линиях шли какие-то гитары, и почему-то было неприятно и даже противно думать, что они никогда не играли… Свет ползал по стенам, безмолвно-розовым рядом вытягивали гитары свои тонкие нарисованные шеи, и на постели с хрипом и свистом подымалась грудь человека, который в эту минуту, может быть, со страшной силой боролся где-то на грани жизни и смерти. Быть может, это была агония, и Башкин умер бы, если бы мы его не разбудили. В первую минуту, когда он открыл глаза, Башкин, очевидно, ничего не сознавал. Странен и страшен был взгляд этих прямо на меня устремленных, как будто откуда-то из страшного далека смотрящих глаз.
— Василий Васильевич, — позвал я.
И вдруг взгляд изменился. Как будто что-то ужасное и непонятное исчезло от звука моего голоса. Знакомое выражение ласки и привета появилось на полумертвом лице, и больной потянулся ко мне навстречу. Я нагнулся и поцеловал его. И вдруг Башкин обхватил мою голову, прижал к груди, в которой хрипело, клокотало и билось что-то, стал нежно-нежно, как мать ребенка, гладить меня по голове. Молча, как будто с великой любовью, и как будто с нежной жалостью, и будто прося меня защитить и спасти его.
И странно. Я, встретивший Башкина с самого первого его рассказа, всю жизнь помогавший ему, всегда бывший старшим его защитником и покровителем, в эту минуту, слыша, как что-то грозно хрипит и клокочет в его груди, а рука его слаба скользит по моим волосам, чувствовал себя маленьким, ничтожным и слабым.
Не от рождения, а от близости смерти надо считать года человеку. Что знал Башкин, что он пережил, я узнаю еще не скоро. И мой хваленый талант, мое имя, Боже мой, как они были ничтожны перед той последней мудростью великой любви и жалости, которую дала Башкину смерть, стоявшая тут же, рядом с нами.
Когда-то мы много спорили с Башкиным. Мои взгляды известны. Много времени мы прожили вместе, и я, как более сильный, давил его своим авторитетом. Теперь настало время подвести итоги. Один из нас кончал последнюю страницу своей жизни. И я спросил его с жутким любопытством:
— Ну что ж, Василий Васильевич, сошлись или разошлись еще больше мы с вами теперь?
Башкин, не улыбаясь, прямо, светлыми и добрыми глазами посмотрел мне в лицо.
— Разошлись, — сказал он. — Надо любить и жалеть всех.
Что ж, может быть, он и прав. Не знаю.
Но, кроме злобы и ненависти, что могло быть у меня в душе, когда мы провожали гроб Башкина в могилку.
Как мало было провожатых! Среди огромного белого поля, по колено в снегу, заносимые метелью, какие маленькие и жалкие, должно быть, казались мы. Белый гроб медленно колыхался впереди, метель секла и трепала две-три цветные ленточки венков, ничего не было видно кругом, кроме белого поля да неустанно несущейся белой метели. Я шел за гробом, проваливался в снег и в сотый раз прочитывал надпись на венке: