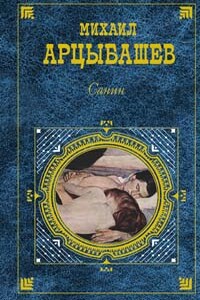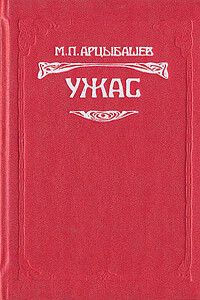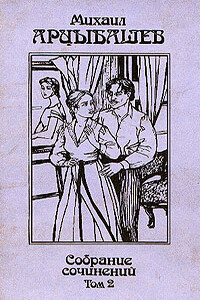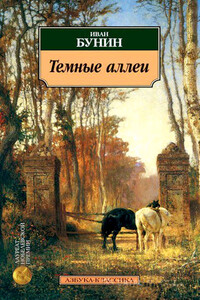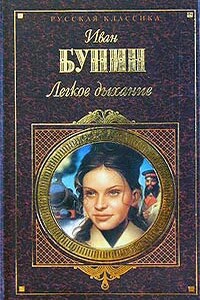_____
Конечно, здесь нет полной аналогии, ибо человек на улице и человек в жизни не одно и то же. Человек на улице мог бы все-таки взять с собой котенка, а человек в жизни не может взять с собой никого, ибо и своего дома у него нет, и сам он не знает, куда и зачем идет.
Аналогия только в отношении к котенку и в его положении. И мы, когда устремляемся с верой и надеждой за своим вождем, верим, что он куда-то приведет нас, и мы останемся на той же темной и страшной улице, когда вождь скрывается в могиле, и мы больнее, мучительнее страдаем, когда нас бросают, чем когда великий человек проходит своим путем, не обращая на нас никакого внимания.
Сколько было этих случайных прохожих, этих вождей и учителей жизни. И каждому мы верили, за каждым бежали, и каждый уходит во тьму, бросая нас, растерянных и жалких.
И если мы, жалкие слепые котята, могли бы закричать, могли бы сознательно взглянуть на своих благодетелей, мы, вероятно, почтили бы память тех больших людей, которые прошли, отыскивая себе дорогу, никого не зовя и на вопросы отвечая — я сам не знаю, и прокляли бы память тех, которые манили нас, обещали что-то, заставляли верить и надеяться и жестоко обманули.
Ведь не в том дело, что, может быть, дорога, по которой они шли, и была настоящей. Дело в том, что ведь сами-то они не могли знать, настоящая или нет! Не могли, ибо не знает человек страны будущего, и не смели они обманывать нас, маня и обещая.
Их сентиментальная жалость противна и бессмысленна, от нее нам только темнее и больнее.
_____
Я думал об этом, опять думал, когда читал статьи Плеханова о Толстом.
С досадой и недоумением читал я — и не мог понять: кто же здесь виноват? Кто виноват в том, что два больших человека (не сравнивая их величины) хотели стать вождями, не зная пути, манили и манят, куда — сами не ведают. Что это? Недомыслие, тупость или сознательная ложь?
Почему Толстой, с такой силой и правдой отрицая вождей борьбы, Плеханов, с большим подъемом отрицая Толстого, не видели, что сами они стоят рядом, в одинаковом положении, и бесцельно тянут за собою слабых и доверчивых, притворяясь, что что-то знают, во что-то верят, чему-то могут научить.
Вот, говорит Спиноза, бродячий мудрец, не восхотевший стать вождем:
«Люди обыкновенно предполагают, что все вещи в природе действуют для какой-то цели, и даже за верность утверждают, что и сам Бог направляет все к известной, определенной цели. Ибо они верят, что Бог сотворил все для человека, а человек для того, чтобы почитал Его».
И опираясь, между прочим, на эти слова, Плеханов укоряет Толстого в телеологии, указывает, что вся его точка зрения, вся его вера покоилась на произвольной истине, что Бог есть, и говорит, что если хотя на минуту допустить сомнение в существовании Бога, то все верования Толстого, вся его религия разлетается с легкостью карточного домика.
Отсюда он делает правильный вывод, что Толстой не мог научить жить, что его пресловутая «воля Пославшего» — только пустое слово, вместо которого можно поставить любое другое, и говорит, что люди, называющие Толстого учителем жизни, не понимают Толстого или не понимают самих себя.
С резкостью и ясностью хорошего анатома он разрезает веру Толстого на части, снимает красивую кожу с голого скелета его учения и показывает нам его сухость и убогость. Детская несостоятельность толстовской веры доказана, кажущийся фундамент развеян в пыль бессмысленной догматики ни на чем не основанной веры.
И тут же, с той же детской непоследовательностью и наивностью, с той же голословностью и с той же телеологией в основе всего, Плеханов, этот вождь трезвейшей из партий, на самом деле такой же случайный и не знающий никакого пути прохожий на земле, как и Толстой, и как мы все, говорит, что радостно и осмысленно жить для народа, во имя народа, для торжества грядущих золотых дней и свободного человечества будущего.
Что лучше, что доказательнее: Бог или грядущее человечество?..
_____
На первый взгляд, конечно, надо предпочесть будущее человечество, народ, идеи равенства и свободы, весь социалистический идеал со всеми его блестящими атрибутами.