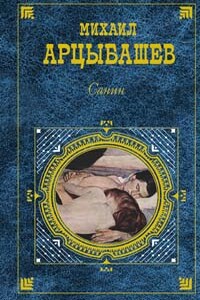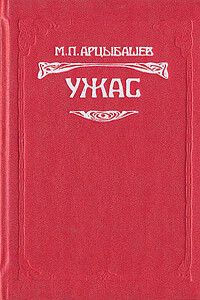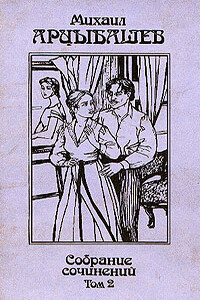Я говорил, что Толстой обладал всеми дарами, какими может обладать человек, и все-таки был несчастен?.. Это факт, засвидетельствованный им самим в письмах его. Я говорил, что Толстой был догматик? Это факт, подтверждаемый каждой его последней статьей. Я говорил, что жизнь и смерть Толстого показали тщету наших надежд и упований на раскрытие истинного смысла человеческого существования? Это мой личный вывод, моя личная точка зрения; она может быть ошибочна, но клеветы в ней не может быть.
Со мной можно было спорить, мне можно было указать ошибки. Но нечего было гоготать, как черти из болота!.. Это-то самое гоготанье… то самое, о котором говорил Толстой в ответ на обвинения в разладе между жизнью и словом его, когда вместо того, чтобы помочь ему, над ним издевались со всех сторон!..
А зависть?..
Ну — да, я завидую Толстому, а также Будде, Шекспиру, Христу, Сократу, Ньютону и многим другим, коих Бог одарил силами, мне не данными!.. И дай Бог, чтобы у всех была такая зависть, чтобы все добивались от своей жизни такого же значения и такой же силы, какие были у этих великанов человечества… Дай Бог, чтобы каждый человек стремился быть господином жизни, а не удовлетворялся скромной участью раба, за которого думают, страдают, творят и совестятся другие!..
Я думаю, что Толстой завидовал, не мог не завидовать Христу, взошедшему на Голгофу, когда он сам не мог справиться с кучкой ничтожных людей, портивших его жизнь, искажавших его дело, толкавших его на компромиссы со своей совестью. Я думаю, что Толстой завидовал силе Христа, покорившего мир. И я думаю, я должен думать, что Толстой мечтал быть равным Христу и Будде, не говорил — куда нам! — ибо, если бы перестал завидовать, перестал стремиться стать равным, то пал бы и умер духовно в самоуничтожении… Отсутствие такой зависти — примирение со своим ничтожеством.
Но это не та зависть, в которой обвиняли меня, говоря, что я завидую чину первого писателя земли русской. Я не могу питать такой зависти, ибо мне, как крайнему индивидуалисту, дороже всего мое собственное место, и я думаю, что свет велик достаточно, чтобы один человек не мешал другому сделать то, что он хочет и может.
Великие люди мешают только ничтожным. Только лакею кажется, что, не будь барина, он сам стал бы таким же барином… и при этом именно таким же, а не другим, ибо своего, внутреннего барства у него нет, и нужен ему чужой наряд, шуба с барского плеча.
_____
Страшно глубоко меня трогала жизнь Толстого и взволновала его смерть. Именно потому, что я понимал грандиозность его жизни, я с искренним трепетом ждал его смерти: как умрет Лев Толстой… И именно потому я не стал проливать дешевых слез над его гробом, а постарался по мере сил и по крайнему разумению серьезно и глубоко разобраться в его жизни и смерти.
Пусть я был слишком резок, слишком горяч… Но сказано: «О, если бы ты был холоден или горяч, но ты только тепел, и за это изблюю тебя из уст моих…»
Татарщина не прошла даром русскому народу. Два века на наших полях простоял стан великого кочевого народа, и когда кочевники ушли, на земном шаре, как после ярмарки в поле, осталось место, покрытое соломой и навозом, изрытое ямами, утыканное кольями, сожженное кострами и вытоптанное конскими копытами. И там, где когда-то росла свежая, буйная трава степи, поднял голову пыльный бурьян. Выросло крепостное право. Оно не могло не вырасти, ибо рабский навозный дух глубоко впитался в землю.
Пышно разросся бурьян. Полнарода превратилось в рабов, рабский дух отравил жизнь, обескровил великий, хотя бы по своей громадности, народ.
Но прошли времена. С новою весной начала робко пробиваться молодая зеленая трава. Задыхаясь в рабстве, разлагаясь, страна дошла до пределов отчаяния и скорби, и внизу, под почвой, началась разрушительная работа, началось всенародное брожение. Подготовлялся стихийный взрыв, страшный народный бунт, всероссийская пугачевщина. Было очевидно, что еще два-три десятка лет, и разразится ужасающая катастрофа, хлынет кровавая река, которая смоет всю плесень рабства, омоет душу народную, и она наконец встанет во весь рост, сильная, страшная и свободная.