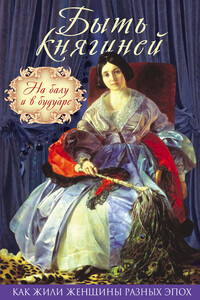Отпустив Орлова, я возвратилась домой, но в таком раздраженном настроении духа, что решила немного отдохнуть. Между тем, приказала приготовить к вечеру мужское платье, но портной опоздал. Когда же я оделась, оно жало и стесняло мои движения. Чтобы не возбуждать подозрений со стороны домашней прислуги, я легла в постель, но не прошло и часу, как была поднята страшным стуком в ворота. Вскочив с постели, я вышла в ближайшую комнату и приказала принять, кто бы это ни был. Молодой человек, не известный мне, явился и назвал себя младшим Орловым. Он приехал спросить (говорил он), не рано ли посылать за императрицей и беспокоить ее слишком поспешным требованием в Петербург.
Я остолбенела. Это так взбесило меня, что я не могла сдержать своего гнева (причем выразилась довольно энергично) против самовольного замедления исполнения моих приказаний, данных Алексею Орлову. «Бы упустили самое драгоценное время, — сказала я. — Вы боялись потревожить государыню и решили, вместо того чтобы своевременно явиться с нею в Петербург, обречь ее на жизнь в темнице или одну с нами участь на эшафоте. Скажите же своему брату, чтобы он немедленно скакал в Петергоф и привез ее в город как можно скорей, иначе Петр III опередит ее и разрушит все наши надежды на спасение России и императрицы».
Орлов, очевидно, был тронут моим порывом и уверил меня, что брат его сию же минуту исполнит мои поручения.
Когда он ушел, я предалась самому печальному раздумью. Мысль боролась с отчаянием и ужасными представлениями, я горела желанием ехать навстречу императрице. Но стеснение, которое я чувствовала от моего мужского наряда, приковало меня в бездействии и уединении к постели. Впрочем, воображение без устали работало, рисуя по временам торжество императрицы и счастье России, но эти сладкие видения быстро сменялись другими страшными мыслями. Малейший звук будил меня, и Екатерина, идеал моей фантазии, представлялась бледной, обезображенной. Эта потрясающая ночь, в которую я выстрадала за целую жизнь, наконец прошла. С каким невыразимым восторгом я встретила счастливое утро, когда узнала, что государыня вошла в столицу и провозглашена главой империи Измайловским полком, который проводил ее в Казанский собор среди огромного собрания войска и граждан, готовых принести ей обет подданства.
Было шесть часов. Я приказала подать себе парадное платье и поспешно отправилась в Летний дворец, где предполагала найти Екатерину. Трудно сказать, как я добралась до нее. Дворец был окружен множеством народа и войск, со всех концов города стекавшихся и соединившихся с измайловцами; я вынуждена была выйти из кареты и пешком пробиваться сквозь толпу. Но как только меня узнали некоторые из офицеров и солдат, я была поднята на руки и отовсюду слышала приветствия как общий друг и осыпана тысячами благословений. Наконец я очутилась в передней со вскруженной головой, с изорванными кружевами, измятым платьем, совершенно растрепанная, вследствие своего триумфального прихода, и поторопилась представиться государыне. Мы были тут же в объятиях друг у друга. «Слава Богу», — вот все, что мы могли сказать в эту минуту.
Потом она рассказала о своем побеге из Петергофа, о своих опасениях и надеждах перед этим ударом. Я слушала ее с биением сердца и в свою очередь описала ей проведенные мной в то же время тоскливые часы, которые были тем тягостнее, что я не могла встретить ее и следить за успехом ее судьбы, блага или бедствия всей России. Мы еще раз обнялись — и я никогда так искренне, так полно не была счастлива, как в этот момент. Заметив, что императрица украшена лентой св. Екатерины и еще не надела Андреевской — высшего государственного отличия (женщина не имела права на него, но царствующая государыня, конечно, могла украситься им), я подбежала к Панину, сняла с его плеч голубую ленту и надела ее на императрицу, а Екатерининскую, согласно с ее желанием, положила в свой карман.
После легкого завтрака государыня предложила двинуться в голове войска в Петергоф и пригласила меня сопутствовать ей. С этой целью, желая переодеться в гвардейский мундир, она взяла его у капитана Талызина, а я, следуя ее примеру, достала себе у лейтенанта Пушкина — двух молодых офицеров нашего роста. Эти мундиры, между прочим, были древним национальным одеянием Преображенского полка со времени Петра Великого, впоследствии замененных прусскими куртками, введенными Петром III. Замечательно, что, едва императрица вошла в город, гвардейцы, будто по команде, сбросили с себя иностранный мундир и оделись в свое старое платье.