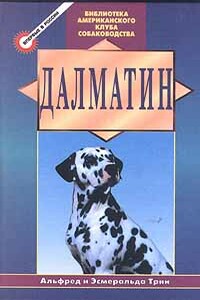Грубый окрик Славы вывел меня из оцепенения. Куда девались улыбочки и прижатие ручек к сердцу? Вот, значит, как? Стало быть, предчувствия меня не обманули. Проходя вдоль стены, я брезгливо сжался, стараясь не коснуться какой-то кучи. Не успел я осознать, что это, как куча зашевелилась и, выдав бормотанье в упряжке с отрыжкой, приняла вертикальное положение. «Куча» оказалась человеком. Эти его действия сопроводились таким запашком, что я чуть не прикрыл нос копытом. Я не в совершенстве понимаю человеческий язык, но все равно уверен, что то, что выдало это существо, речью не называется. Наконец меня завели в саму конюшню… Несколько пар тусклых, безрадостных, а у кого и гноящихся глаз воззрились на меня. Их обладатели даже не предприняли попытки как-то прореагировать на мое появление, как подобает жеребцам. Усталость и апатия лезли из каждого денника. Увидев грязные стены, ржавое корыто с плавающими окурками в несвежей воде, тенёта, будто занавеси свешивающиеся с потолка, голые полы, залитые мочой, и навоз вместо подстилок, я замер. Я и в страшном сне не мог представить, что так можно жить. И это в двадцать первом веке! И жгучая волна тупой ненависти к двуногой дряни, идущей рядом и мнящей, что может повелевать такими, как мы, ударила в мозг. Одно мое движение влево, небольшое усилие — и этот «венец творения» будет сплющен в плакат, какие Иринка развесила у меня в деннике для моего эстетического развития. Но именно Иринкин образ и отвлек меня от этого порыва. Она-то у меня действительно «венец творения». И всплеск дикой злобы сменился уничижающей жалостью к рядом идущей каланче, которая, конечно же, осознавала себя человеческим самцом, везде одерживающим победу. Мне стало интересно, почему человечество, дошедшее умом до технических, медицинских и прочих чудес, осталось таким тупым по отношению к нам, лошадям? Откуда этот инстинкт превосходства, причем ничем не оправданный?! И почему так нелепо устроено человеческое сознание, что чем выше человек в своем табуне по заслугам, благородным качествам, тем он более считает себя недостойным чего-либо хорошего в силу скромности? А то, что называется человеческими отбросами, мнит себя хозяином и повелителем? Я снова подумал о своей Иринке. Она умна, добра, красива, порядочна, но всегда, любуясь, как я резвлюсь в леваде, изощряясь в прыжках и стойках, называла меня эталоном красоты и благородства. И искренне возмущалась, что кто-то называет так каких-то убогих теток на плакатах в разноцветных журналах, которые сами же и платят бешеные деньги, чтобы их так называли. Но это я отвлекся. Выпрыгнув из воспоминаний об Ирине, я очутился в холодной и грязной реальности, где проведу десять дней. А эти бедолаги, что стоят в денниках по обе стороны от меня, живут здесь всю жизнь!
Меня завели в денник, где я кое-как смог развернуться, так что особо резвых пируэтов не получится в силу тесноты. С потолка свешивались канаты паутины, которая не убиралась, наверное, со времен постройки конюшни. Пол голый, света почти нет, так как окно затянуто паутиной и не мылось с тех пор, как Бог сотворил лошадь. Я огляделся в поисках кормушки и поилки и увидел какой-то полуразбитый ящик, лежащий в углу на остатках сухого навоза. Поилки не было и в помине. Осознав, что попал в лошадиный ад, я решил бороться!
За мной закрыли дверь, предварительно кинув шмат старой травы. Сразу же в носу засвербело от пыли. Я тупо уставился на то, что мне кинули, пытаясь понять назначение этого клока. Для подстилки мало, да и не лягу я на эту грязь. Я осторожно заглянул через брешь в стене к соседу слева, меня передернуло — он это ел! И желание борьбы и победы поселилось в каждой жилке моего тела.
Вскоре настал вечер. Кроме пыльной спрессованной травы, никакого корма больше не подали, и лишь почти ночью, перед сном, нас вывели попить. Я, отупев от омерзения, смотрел, как лошади пили из ржавого корыта с плавающими окурками. Кое-как справившись с потрясением, я наконец-то разглядел всех. Грязные, в «стекляшках» бока, с торчащими ребрами и моклоками, спутанные гривы и разбитые вдрызг копыта… Вывел меня из ступора окрик конюха в сопровождении каких-то странных слов, которые я совсем не разобрал. Как мне потом пояснил сосед из левого денника, это — мат. Из его сбивчивых разъяснений я понял одно: когда человеку нужно придать словам особую значимость, используют этот самый мат. Жаль, что я не говорю на человеческом языке, я бы уж придал словам такую значимость!!!