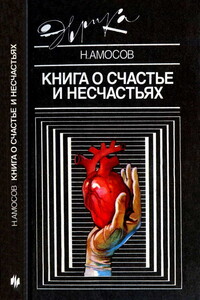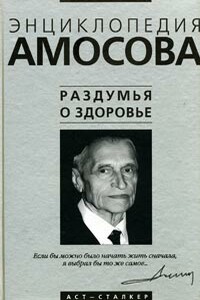Три литра плазмы и кровезаменителей для заполнения АИКа заготовила я в своем отделении. Целую неделю выписывала со станции по одной-две ампулы.
Вся подготовка планировалась на специальных совещаниях, узких — с Юрой и Вадимом, и более широких, когда приглашались я, Поля, Игорь. (Странно было приходить в эту квартиру по делу и держаться как чужой.) Володя и Валя ничего не знали до конца.
Долго обсуждался вопрос: может быть, испросить официального разрешения? Вадим на этом настаивал: «Неужели они не поймут?» Под «они» понималось академическое начальство. Все-таки решили молчать. Испугались, что как начнется «согласование», так может продлиться несколько месяцев, никто не захочет взять на себя ответственность, сказать «да» в таком необычном деле. В конце концов что они нам могут сделать? Дело сделано по настоянию пострадавшего.
(Интересна была первая реакция в понедельник утром. Иван Петрович вызвал Семена, Юру, Вадима, сначала кричал, потом горестно закатывал глаза: «Как могли вы решиться участвовать в этом деле? Убили человека, убили блестящего ученого!» Потом снова: «Будете отвечать по всей строгости закона. Я этого дела так не оставлю! Я из-за вас в тюрьму садиться не буду!» И так далее. Отправил их и тут же начал звонить в обком. Но Юра не стал ждать, и утром же двинул туда сам с копией завещания. Важно сразу дать делу правильное освещение. В общем, все обошлось, и в понедельник уже было дано первое сообщение в печать. Иван Петрович важно принимал в своем кабинете журналистов и позировал перед фотографами. Послушать, так именно он создал Прохорова и подготовил проведение операции. Но Юра тоже не зевал и уводил гостей в лабораторию, а там директор был явно несостоятелен. Командовал Юра. Началось обыгрывание «подачи». Всем было очень противно, но новый некоронованный шеф — Юра — сказал, что так надо. Может быть, и надо, но все равно противно.)
Потом мы говорили о другом. Я рассказывала разные истории о больных, о детях. Обсудили последний кинофильм, который он, конечно, не видел, только читал отзывы. Я уже не помню всего. Знаю только, что оба старались друг перед другом показаться спокойными и веселыми. Так бывает в вечер проводов перед долгой разлукой. Мама рассказывала, как провожала отца на войну. Мне было десять лет, и я в самом деле думала, что все веселые.
Наконец в десять вечера Ваня сказал, что он устал и что мне пора домой. Сложные у меня были при этом чувства. «Вот, последние минуты, запомни их. Вот они уходят». И в то же время: «Хорошо, что пора домой». И тут же стыд, что должна остаться, и нет уверенности, что он этого хочет.
Он встал с постели, слегка пошатываясь, подошел к письменному столу (пустой стол блестел) и достал из ящика папку.
— Я последний год писал кое-что. Вот возьми, храни. Может быть, когда-нибудь проснусь, любопытно будет. Показывать не нужно никому… До тех пор, пока ты сама не решишь. Сегодня утром написал последнее. Прошу тебя: не читай сегодня, мне неприятно. И вот еще пачка твоих писем.
Старался говорить спокойно, и, пожалуй, это ему почти удалось. Я тоже держалась, как могла.
Потом предложил мне взять на память что хочу, а я никак не могла сообразить что. Какие-то подлые мыслишки: «А вдруг узнают?» Так въелась эта конспирация. Выбрала несколько фотографий, которых у меня не было. Они и сейчас здесь, я каждый день смотрю и представляю, как он рос, учился, о чем думал.
Еще я взяла маленький чугунный бюстик Толстого. И все.
И все. Поцеловала и побежала. Слышала еще, как сказал: «Прости меня, Лю». Дверь захлопнулась. Спускалась по лестнице, а в голове: «Конец. Конец. Конец…» Опять плакала дорогой и всю ночь тоже. Представляла, как он чистит зубы, принимает лекарство, ложится. Наверное, еще по привычке читает газету… Опять терзалась: «Как могла его одного оставить?» Плохо мне было.
Больше сегодня писать не могу. Расстроилась совсем. Нужно идти домой. Соскучилась по своим милым. Что бы я делала без них? Так и слышу щебетание: «Мамочка, мамочка пришла!» А Костя басит с претензией на солидность: «Ну, наконец!» А потом забывает и целует меня, как раньше, когда был маленький. Нужно еще зайти посмотреть тяжелых больных перед уходом. Не хочется, а не зайти не могу. Почему это?