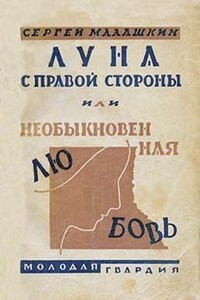— Если мы, маменька, поглядим внимательно на выдающихся людей, — убеждая маменьку, а больше, конечно, меня, сыпал-рассыпался звонким красноречием Феденька, — ну хотя бы на одного из них, на Льва Николаевича Толстого, который никогда не позволял того, чтобы ему (где и от кого Феденька это слышал, я не знаю) лакей или кто-нибудь из прислуги подавал стул или кресло… Да, да, маменька, он сам всегда брал для себя стул или кресло и садился.
Так ли поступал Лев Николаевич Толстой, я не знаю, но и не могу не верить в этом Раевскому. Да и как я мог не поверить такому талантливому юноше, когда маменька с трепетным сердцем и с благоговейно открытым ртом слушает его, Это еще что! Его маменька, Ирина Александровна, никогда не возражает ему, когда он назидательно, убежденно и почти сурово наставляет ее, если она уклоняется от купеческих привычек и этикета в своей домашней жизни. Заметим: она не любит, даже очень сердится и на тех юношей и пожилых, ежели, когда он говорит, они имеют свое мнение о купечестве, возражают ему. Вот только поэтому и я, ее квартирант, не возражаю Феденьке. Слушая Феденьку, Ирина Александровна краснела, молодела (она была недурна собой, несмотря на свои сорок лет), робко, сладостно, как бы капая медом, лепетала:
— Феденька, я всеми силами стараюсь держаться купеческих привычек, купеческого итикета.
— Не «итикета», маменька, а «этикета», — поправлял с нервным взвизгом Феденька свою маменьку (она была дочерью всеми уважаемого дьякона Успенской церкви).
— Знаю, знаю! Надо говорить «итикет».
Федя Раевский ладонями зажимал свои большие красные уши, кидал недовольно-сконфуженный взгляд на меня и в великом отчаянии убегал в свою комнату или в сад, полный весеннего благоухания и птичьего неугомонного гама, кружился из одного края в другой с зажатыми ушами, от крылечка к забору, от забора обратно. Ирина Александровна со страхом скрывалась в боковую комнатку, служившую спальней и молельней, падала на колени перед иконами, молилась и молилась, прося угодников, чтобы они просветили ее умишко. С разночинцами Феденька не изволил знакомиться; он не мог и слышать их вольнодумства, идущего вразрез его мыслям, установившимся устоям законного порядка. Не уважал он, разумеется, и мещан: относился свысока и презрительно к этому многочисленному сословию, хотя и сам являлся членом его. Ирина Александровна и при Семеновне проштрафилась перед своим ненаглядным голубком: сказала не «этикет», а «итикет». Услыхав это слово, Феденька, вернувшись только что из сада, опять вспыхнул румянцем:
— Маменька, «этикет», а не «итикет».
— И я говорю, Феденька, так, как и ты. Что, голубок, ко мне, старой, придираешься?
Феденька выпрямился, развел руками широко-широко и, как распятие, страдальчески постоял над столом, а затем бросился из-за стола, упал лицом на подушку, лежавшую на диване, расплакался так, что белоснежная, пахнущая ландышевыми духами наволочка взмокла от его слез, потемнела. Ирина Александровна, услыхав рыдания Феденьки, вздохнула и, взглянув на Семеновну и меня, метнулась к сыну.
— Феденька, скажи, чем я обидела тебя? — спросила надрывно она, сквозь слезы, не чувствуя никакой вины за собой.
Феденька, ее ненаглядный голубок, не ответил на вопрос своей маменьки, дергал острыми плечиками, содрогался всем туловищем. Ирина Александровна выпрямилась, села за стол и, роняя слезы на скатерть и чайное блюдце, в котором желтел стынущий чай, уже не спрашивала Феденьку, а безжалостно казнила и казнила себя:
— А, какая я дура… И кто это придумал такое слово «итикет»? Не хочу, не хочу слышать его в доме! Ах какая я дура! — Так она казнила себя мучительно; ну прямо, ну прямо была жестоким инквизитором над своим добрым материнским сердцем; она перестала казнить себя только тогда, когда ее голубок поднялся с дивана, прямой, стройный, и, не поглядев на маменьку, повеселевшую малость, сел за стол и принялся за прерванное чаепитие.
Ирина Александровна, посматривая умильно, украдочкой, счастливо из-за самовара, пылающего серебристой медью, на своего ненаглядного, севшего за стол и взявшего булочку, еще больше повеселела, хотя в ее серо-синих глазах и поблескивали хрусталем слезы.