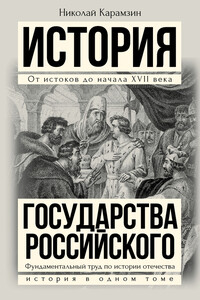особенной для себя выгоды. Еще Наполеон в тогдашних 52
обстоятельствах не вредил прямо нашей безопасности, огражденной
Австриею, Пруссиею, числом и славою нашего воинства. Какие
замыслы имели мы в случае успеха? Возвратить Австрии великие
утраты ее? Освободить Голландию, Швейцарию? Признаем возможность,
но только вследствие десяти решительных побед и совершенного
изнурения французских сил... Что оказалось бы в новом порядке
вещей? Величие, первенство Австрии, которая из благодарности
указала бы России вторую степень, и то до времени, пока не
смирила бы Пруссия, а там объявила бы нас державою азиатскою, как
Бонапарте. Вот счастливая сторона; несчастная уже известна!..
Политика нашего Кабинета удивляла своею смелостью: одну руку
подняв на Францию, другою грозили мы Пруссии, требуя от нее
содействия! Не хотели терять времени в предварительных сношениях,
— хотели одним махом все решить. Спрашиваю, что сделала бы
Россия, если бы берлинское министерство ответствовало князю
Долгорукову: «Молодой человек! Вы желаете свергнуть деспота
Бонапарте, а сами, еще не свергнув его, предписывали законы
политике держав независимых!.. Иди своим путем, — мы готовы
утвердить мечом свою независимость». Бенигсен, граф Толстой
ударили бы тогда на Пруссию? Прекрасное начало — оно стоило бы
конца! Но князь Долгоруков летел с приятнейшим ответом: правда,
нас обманули, или мы сами обманули себя.
Все сделалось наилучшим образом для нашей истинной пользы.
Мак в несколько дней лишился армии; Кутузов, вместо австрийских
знамен, увидел перед собою Наполеоновы, но с честию, славою,
победою отступил к Ольмюцу. Два сильные воинства стояли готовые к
бою. Осторожный, благоразумный Наполеон сказал своему: «Теперь
Европа узнает, кому принадлежит имя храбрейших, — вам или
россиянам», — и предложил нам средства мира. Никогда политика 53
российская не бывала в счастливейших обстоятельствах, никогда не
имела столь мало причин сомневаться в выборе. Наполеон завоевал
Вену, но Карл приближался, и 80000 россиян ждали повеления
обнажить меч. Пруссия готовилась соединиться с нами. Одно слово
могло прекратить войну славнейшим для нас образом: изгнанник
Франц по милости Александра возвратился бы в Вену, уступив
Наполеону, может быть, только Венецию; независимая Германия
оградилась бы Рейном; наш монарх приобрел бы имя благодетеля,
почти восстановителя Австрии и спасителя немецкой империи.
Победа долженствовала быть, по крайней мере, сомнительною; что мы
выигрывали с нею? Едва ли не одну славу, которую имели бы и в
мире. Что могло быть следствием неудачи? Стыд, бегство, голод,
совершенное истребление нашего войска, падение Австрии,
порабощение Германии и т.д... Судьбы Божии неисповедимы: мы
захотели битвы! Вот вторая политическая ошибка! (Молчу
о воинских.)
Третья, и самая важнейшая следствиями, есть мир Тильзитский,
ибо она имела непосредственное влияние на внутреннее состояние
государства. Не говорю о жалкой истории полуминистра Убри, не
порицаю ни заключенного им трактата (который был плодом
Аустерлица), ни министров, давших совет государю отвергнуть сей
лаконический договор. Не осуждаю и последней войны с французами —
тут мы долженствовали вступиться за безопасность собственных
владений, к коим стремился Наполеон, волнуя Польшу. Знаю только,
что мы, в течение зимы, должны были или прислать новых 100
т[ысяч] к Бенингсену, или вступать в мирные переговоры, коих
успех был вероятен. Пултуск и Прейсиш-Эйлау ободрили россиян,
изумив французов... Мы дождались Фридланда. Но здесь-то следовало
показать отважность, которая, в некоторых случаях, бывает
глубокомысленным благоразумием: таков был сей. Надлежало забыть
Европу, проигранную нами в Аустерлице и Фридланде, надлежало 54
думать единственно о России, чтобы сохранить ее внутреннее
благосостояние, т.е. не принимать мира, кроме честного, без