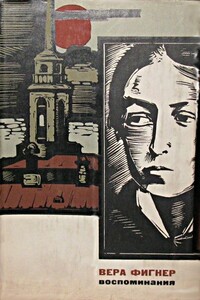Энергичная, действенная любовь Петра Францевича к своему предмету невольно передавалась и заражала его учеников. Это были именно ученики, а не слушатели. Вступив в анатомический зал, студент отрешался от внешнего мира, им овладевал учитель и настойчиво и неуклонно благодаря собственной настойчивости и любви к делу лепил его по своему подобию.
«Да не будет ученик недостоин учителя своего», — бессознательно зарождалось, развивалось и зрело в уме у каждого.
Если учитель говорил о крошечных канальцах каменистой части височной кости, если он указывал на легкий желобок, в котором проходит нерв, разве возможна была мысль, что это пустяк, что это не нужно, не пригодится будущему медику или хирургу? Нет! Если Лесгафт говорит, если он требует, значит, нужно. И каждая деталь запечатлевалась, казалась важной; каждая фраза о зависимости организации от отправления принималась как откровение; каждое обращение к истории развития бросало свет в уголок сознания…
И вот когда мы уже прикоснулись к источнику знания, когда, казалось, уже получали первые ключи к познанию явлений природы, бессмысленно, неожиданно и грубо наши занятия были прерваны.
Однажды утром, когда мы с сестрой пришли в анатомический театр и вошли в препаровочную, мы были удивлены, что на столах трупов нет, студентов нет, Лесгафт отсутствует…
И вот нам сказали: по высочайшему повелению, переданному по телеграфу из Петербурга, Лесгафт отрешен от профессуры и лишен навсегда права дальнейшего преподавания.
Но за что? За что?
Новость казалась чудовищной, нелепой…
Потом студенты, особенно близкие к Лесгафту, объяснили, что часть профессоров не сочувствовала личности Петра Францевича, всегда прямого и резкого, и что они писали доносы на него, обвиняя во вредном влиянии на университетскую молодежь.
Те же студенты сообщили нам, что другие профессора — Марковников, Голубев, Ковалевский, возмущенные изгнанием Петра Францевича, отказываются от своих кафедр и, отрясая прах от ног своих, переходят в другие университеты; что некоторые студенты, хотя и немногие, не желают дольше оставаться в Казанском университете и перейдут в Петербург, куда уезжает изгнанный Лесгафт.
Я была в то время так далека от политики, что не поняла связи события с общим строем нашей страны, и мое негодование обращалось главным образом на предполагаемых доносчиков и клеветников.
Мне было грустно, что мои планы рушились, что мое учение прервано, и, боясь повторения того же в будущем, я тогда же решила не добиваться более ничего в России и ехать за границу. Там не помешают! И без препятствий, без тревог можно будет спокойно учиться и кончить курс.
Было больно за Петра Францевича. Мы пошли к нему на дом. Там все было вверх дном. Продавалась мебель, посуда — ломка жизни была полная. Петр Францевич с женой и маленьким сыном оставался без средств и без всяких перспектив в будущем. Все было разбито, и приходилось строить новую жизнь на новом месте; учитель по призванию лишился аудитории, лишился атмосферы, которою жил, лишился возможности работать, как он хотел.
…Он выглядел спокойным; как всегда, говорил с легкой иронией, и мы не услышали ни одной банальной фразы: он был весь сдержанность и такт. О происшедшем он не сказал ни слова. Мы тоже не спрашивали ни о чем; ведь мы могли узнать все от студентов. Купили мы с сестрой из продававшихся вещей по чайной чашке «на память»; принесли Петру Францевичу нарочно снятую для него фотографию, на которой изображены вдвоем у столика за анатомией.
И долго белая чашка мною сохранялась. Однажды в Шлиссельбурге под конец заключения жандармы дали мне совершенно такую же. Я страшно обрадовалась: она напомнила мне Петра Францевича в Казани[108].
После ухода Петра Францевича оставаться в Казани нам было незачем; я уехала опять в деревню, в Тетюшский уезд, а весною 1872 года втроем, так как к нам присоединилась сестра Лидия, мы покинули Никифорово и отправились в Цюрих, где новые горизонты, широкие и далекие, захватили нас…