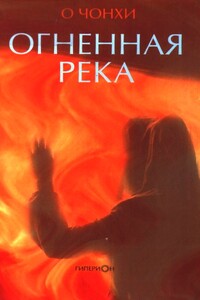— Ладно, выкладывай, братец, да поскорее.
— Раз вы мне так сочувствуете, — тут он поднял на меня глаза, — не выроете ли для меня подземный ход прямо к вашему Дворцу, чтобы я в случае чего…
Не дослушав его до конца, я щелкнул челюстями и возмущенно зашипел:
— Ишь ты, шваль! Подземный ход к Нашему Дворцу?! Больше ничего не хочешь?! Да ты, поганец, смердишь, как Сыч! Ведь Нас с тобой рядом просто тошнит. Смотри, как расчувствовался… Утри-ка сопли! Сам вырыл свою дыру — и подыхай в ней!
Повернулся и как ни в чем не бывало отправился восвояси.
Однажды под вечер я, по своему обыкновению, стоял у дверей, любуясь закатом солнца.
В последние дни было много дождей. Окрестные пруды и озера слились с большими лужами и образовали целое море. Оно блестело прямо передо мной. В высокой воде кишмя кишели рыбы, раки и крабы. Ну а за ними, само собою, пожаловали с оскудевших речных побережий голодные цапли и журавли, выпи и бакланы, чирки и птицы Шэмкэм, что клюют в северных чащах чудесный корень женьшень, пеликаны и разные утки. С утра до ночи они кричали, свистели и крякали, яростно споря из-за каждой крохотной креветки. Иные цапли, из тех, что помоложе, день-деньской топчутся в иле, буравят его клювом, да так ничего и не сыщут для своих отощавших желудков. Глянешь на всех этих птиц — прямо беда: худющие, еле ноги таскают! Хлопочут бедные, бьются, а живут впроголодь…
Так стоял я у двери, вызолоченной отражавшимися от воды бликами заката, и размышлял о превратностях жизни, чувствуя какое-то смутное беспокойство и тревогу.
Вдруг я увидел, как над водой поднялась пожилая Бакланиха и, подлетев к берегу, опустилась рядом с моим Дворцом, в двух шагах от меня. Судя по всему, ей перепал недурный кус: едва приземлившись, она отыскала местечко попрохладней и начала охорашиваться, чистить перышки, прочищать клюв.
Надо сказать, нрав у меня был в ту пору озорной и пакостный. И хоть Бакланиха эта ничем меня не задела, я решил устроить ей какую-нибудь каверзу и окликнул Мозгляка:
— Эй, братец! Не хочешь ли позабавиться вместе с Нами?
— Позабавиться, а как?.. У меня вообще приступ астмы… Кхе-кхе…
— Да забава-то пустяковая.
— Кхе-кхе… А в чем дело?
— Давай-ка подденем вон ту старуху Бакланиху.
Мозгляк выглянул из своей дыры, покосился на птицу и спросил:
— Эту почтенную пышнотелую Бакланиху, что стоит у моего дома?
— Ага.
— Нет уж… Кхе-кхе… Увольте. Припадаю к вашим стопам всеми шестью лапками… Кхе-кхе… Вы лучше ее не трогайте. Как бы она вас…
— Она Нас — что?.. — заорал я, выпучив глаза. — Да как ты смеешь? Мы — кузнечик Мен! Мы — самый главный! Мы никого не боимся!
— О дорогой Мен, вы… Кхе-кхе… Позвольте тогда мне бояться за двоих. А вы, пожалуйста, развлекайтесь без меня.
Я отчитал Мозгляка как следует.
— Эх ты, олух! — сказал я в заключение. — Смотри, как Мы сейчас допечем эту старую тушу.
Дождавшись, пока Бакланиха отвернулась от моего Дворца, я запел язвительно и звонко:
Тири-ри! Тири-ри!
Птиц у нас не две, не три!
Журавли, нырки, бакланы…
Нет, не сосчитать;
Все жирны. Кого, скажите,
Первым ощипать?
Мы Бакланиху поймаем,
Перья мигом ощипаем,
И отварим,
и зажарим,
и съедим!
Бакланиха решила, будто голос раздался прямо из-под земли, сперва растерялась, а потом взмахнула крыльями и чуть было не улетела, но через минуту пришла в себя, вылупила глазищи, угрожающе растопырила крылья и, раскачиваясь из стороны в сторону, двинулась к моему Дворцу.
— Что там за дрянь, — приговаривала она на ходу, — поносит Нас?.. Что за дрянь поносит Нас?..
Я тотчас юркнул во Дворец, прошествовал в спальню и улегся, скрестя руки и ноги на роскошном ложе. «Сердишься, старая туша, — думал я с удовольствием, — ну и сердись на здоровье! Хоть расплющи свою тупую башку, а во Дворец тебе не пролезть…»
Но тут случилась беда — себялюбец, каким я был тогда, конечно, не мог ее предвидеть.
Не заметив меня, Бакланиха углядела зато Мозгляка, торчавшего у своей норки.
— Ты что сказал, мерзавец? — заорала она.
— Полно вам, почтеннейшая, я ведь и рта не раскрыл.
С этими словами он кинулся в норку.
— Отпираешься, да? Вот тебе!.. Вот тебе!..