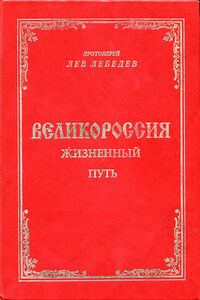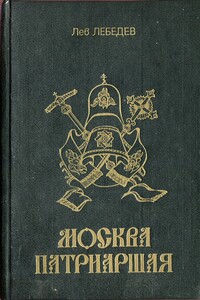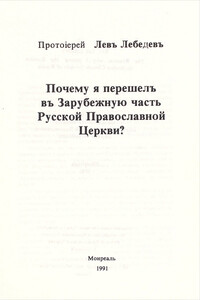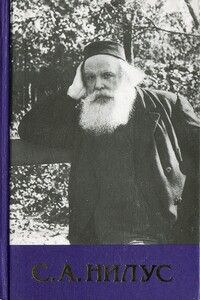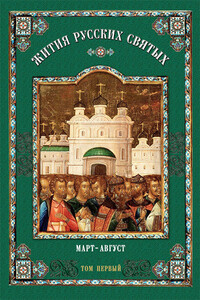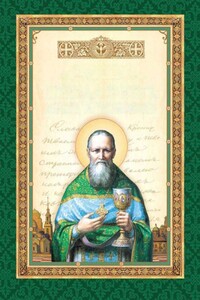Вот почему диакон, священник и архиерей носят в повседневной жизни одеяния (подрясник, рясу), соответствующие земным одеждам Спасителя. Но особенно замечательны в этом отношении их богослужебные облачения. По покрою (стихарь, подризник, фелонь, саккос) они соответствуют земным облачениям Иисуса Христа (нижней длинной одежде, хитону с широкими рукавами, хламиде, в которую Он был облачен при поругании)27. Но по исполнению (материи, отделке, украшениям) эти же одежды означают те ризы Божественной славы, которые имеет Христос как Вседержитель и Царь міра!
Это укоренено в православном учении об иконопочитании. Известный богослов Л. Успенский справедливо обратил внимание на то, что 82-е правило Пято-шестого Трульского собора, повелевая на иконах изображать Христа в Его человеческом облике, «чтобы через это, созерцая смирение Бога слова, приводиться к воспоминанию Его жизни по плоти... и происшедшего отсюда искупления міра28, полагает особый принцип в иконографии Спасителя: Его иконы должны изображать одновременно и кенозис (унижение, снисхождение Бога к человеку), и — непременно (!) — Его Божественную славу как Искупителя и Царя міра29.
Сама возможность изображения (образа) Господа Иисуса Христа на иконах и в священнослужителях Церкви основана на очень глубокой тайне устройства міра Божия, где «переход (евр. — «пасха») человека и творения из этого міра в другую... новую действительность, совершение нового во Христе и Духе Святом Творения»30 происходит в рамках, в условиях образа в самом широком смысле слова. «Бога никтоже виде нигдеже; Единородный Сын, Сый в лоне Отчи, Той исповеда» (Ин. 1, 18). «Видевый Мене, виде Отца». — говорит Христос (Ин. 14, 9), и апостол Павел называет Спасителя «образом Ипостаси» Бога Отца (Евр. 1, 26). Подобно этому и в соответствии с этим, и Церковь является «образом Бога», человека, міра, и вещественная живописная икона может быть образом Иисуса Христа, и человек-священник может являться одушевленной иконой (образом) Спасителя. Совершенно очевидно, что во всем этом речь идет не просто о некоей условной аллегории, как мы уже говорили. Реальность, действенность образа заключена в его таинственной и действительной связи с первообразом. Связь эта состоит в том, что, по слову преподобного Феодора Студита, «образ и первообраз некоторым образом имеют бытие друг в друге». «Насколько изображение сходно с первообразом, настолько оно и участвует во всецелом, подобном ему поклонении, не присоединяя к поклонению и вещество, на котором оно находится. Природа изображения в том и состоит, что оно тождественно с первообразом в отношении подобия, а различается по значению сущности» (природы — прот. Л.)31. Тождество, о котором идет речь, осуществляется проникновением энергий первообраза в образ, который, тем самым, заключает в себе реальное, но таинственное присутствие того, что или кого он изображает.
Если провести вполне допустимую в контексте сказанного параллель между живописной иконой Христа Спасителя и священником как Его одушевленной иконой, то можно особенно отчетливо увидеть следующее. Священник «прообразует Самого Господа Иисуса Христа» (святитель Симеон Солунский) в том же смысле, в каком живописная икона Спасителя. То есть не человеческая природа и личность священника «тождественны» Христу, но лишь образ Священства Христа, данный человеку при рукоположении. Священник как образ Спасителя тоже обладает энергиями, силами своего Первообраза, по данной ему благодати. Ближайшим образом, как мы видели, это относится к власти священника «вязать и решать» и вообще тайнодействовать в Церкви. Чтобы вполне, уяснить себе суть вопроса, продолжив параллель, скажем, что живописная икона Христа Спасителя может быть исполнена искусно и выглядеть светло, красиво, быть цельной, даже украшенной, а может быть или не очень искусно исполненной, или изъеденной, древоточцем, или поврежденной, или потемневшей от времени и копоти настолько, что на ней Лик-то Божий с трудом бывает виден, но она тем не менее останется для любого верующего именно иконой Спасителя, требующей самого благоговейного отношения, до тех пор пока степень разного рода повреждений и порчи не превзойдет всякую допустимую меру, после чего бывшую икону положено сожигать (или зарывать в землю) как безнадежно пропавшую. То же и священник как образ Христа. Он может сиять личными добродетелями и достоинствами, а может и потемнеть от грехов... Но он останется священником и образом Спасителя до известных, определенных канонами границ.