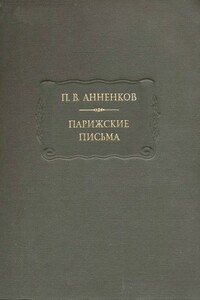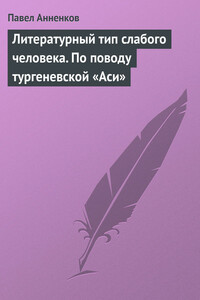Заметки о русской литературе 1848 года - страница 6
В заключение мы осмеливаемся предложить несколько беглых вопросов, пожалуй, хоть самим себе. Насколько может быть интересно апатическое лицо, не находящее в себе никаких сил для выхода из стесненного положения? заслуживает ли оно той примерной любви, какую питают к нему некоторые писатели? не значит ли потворствовать крайнему нравственному бессилию беспрестанным его осмотром, и какая польза может произойти от этого в эстетическом и всяком другом отношениях? Мы когда-нибудь вернемся к этим вопросам, а теперь переходим к г. Достоевскому-брату (М.М.).
Лучшая повесть г. Достоевского «Господин Светелкин» может служить образцом того насильственного и механического распространения сюжета, о котором было говорено. На семи печатных листах рассказывается в ней история девушки, воспитывавшейся в чужом доме и потерявшей непорочность свою в любви к молодому повесе, сыну своих лицемерных благодетелей. Когда потом добрый и слабый г. Светелкин присватывается к ней, когда благодетели всеми силами стараются устроить эту свадебку, чтобы сбыть с рук воспитанницу, девушка сопротивляется им, бежит из дому и открывает все дело жениху на его квартире. Тут, вместо ожидаемого презрения, она получает более чем прощение: она получает от Светелкина трогательную просьбу остаться бескорыстным другом ее, если уж он не может быть ее мужем. Наташа отдает ему свою руку. «Я слышал, что они очень счастливы», – лаконически прибавляет автор в заключение рассказа. Как в произведениях старшего (по появлению на литературном поприще) Достоевского, здесь есть зародыш повести, который никак не выходит к полной жизни, погибая преимущественно от недостатка в живительных лучах знания и наблюдения. Из краткого изложения нашего можно уже видеть, что тут опять встречается добрый и ничтожный человек – Светелкин, повеса Уховерткин-сын. На первого так много и неосторожно наговорено вздорного, что его прекрасный, истинно человеческий поступок кажется уже новым видом пошлости; по той же причине второй делается чем-то вроде аллегорического изображения нелепости и перестает быть лицом. Все семейство Уховерткиных, видимо, придумано в тиши кабинета, и члены его страх как походят на тщательно обделанные игрушки. Умалчиваем о способе распространения повести, об описании квартир, о разговоре героя с кухаркой, кухарки с гостями и т. п.; умалчиваем о юмористических странностях вроде следующих: «Мантилья поспешила сама собою, без посторонней помощи, взъерзнуть на Наташины плечи», или г. Пташкин «торопливо разрезывал всей своей особой несчастную бекешь с отличным, впрочем, бобром»; умалчиваем также о фантастических картинах наподобие той, которая представлена, когда г. Светелкин, открывший истину, убегает с девичника: «Казалось, все мысли, какие только были у него, даже самые органы, на которых зарождались эти мысли, вышли из его телесного состава и стали неподалеку от него, посылая ему, от времени до времени, какую-нибудь разрозненную мысль, половину, четверть мысли». Все это может наскучить читателю, несмотря на прелесть этих мыслей, посылающих четверть мысли и доказывающих, как недостатки оригинала вырастают до чудовищного у подражателей; но мы обязаны сказать несколько слов о самой героине – о Наташе.
Лицо русской женщины или девушки есть камень преткновения для писателя, живущего только с самим собою. Место этого лица до сих пор остается праздным в нашей литературе, несмотря на несколько старых удачных попыток гг. Лермонтова, Нестроева и новых г. Дружинина. О Пушкине не говорим: он всегда у нас исключение, да и был бы недосягаемым исключением, где бы ни появился. Отсутствие женского лица в нашей изящной словесности сообщает ей тот резкий, холодный характер, который многих поражает. Всякий согласится, что нельзя же назвать женщинами и живыми существами произвольные фигуры, выставляемые нашими авторами. Только герои самих рассказов могут впадать в такую грубую ошибку, но читатель, слава Богу, избавлен от этой необходимости. Есть множество весьма