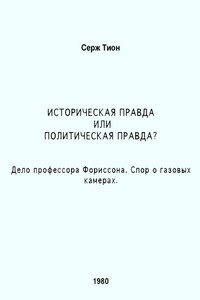Одна из характерных особенностей переводческой школы Вяч. Иванова (впрочем не только переводческой) состояла в повышенном интересе к русско-славянской архаике. По мнению автора, при обращении к Петрарке такой подход вполне оправдан. Даже беглый взгляд на подлинник немедленно отметит в нем в гуще италийского просторечия, если не прямые латинизмы, то лексику, находящуюся на полдороге от них к более позднему формальному воплощению. (Аналогично в русском: "длань" - "ладонь").
Тем не менее школе Вяч. Иванова можно поставить в минус то, что в его переводах совершенно отсутствуют "бытовизмы", также характерные для Петрарки.
Столь же велик по объему (и по значимости) вклад Евгения Солоновича. Обжорство, леность мысли, праздный пух/ Погубят в людях доброе начало:/ На свете добродетелей не стало,/ И голосу природы смертный глух.[9]
Солонович, также как до него и Маршак в переводах Шекспира, строго придерживается среднего слоя официальной русской лексики. Мы не находим в ней ни следов высокого "штиля", ни прямых вульгаризмов.
Итак - подходим к парадоксальному итогу - девятнадцатый век в России беден петрарковыми строками, но зато - богат смысловыми влияниями на читательское сознание. В век двадцатый - Петрака переведен на российскую мову практически весь, но вес его в этом самом сознании (сравнительно с Байроном и байронистами) достаточно ничтожен. Утрачено что-то накопленное в веке девятнадцатом - что я назвал бы - глобальным видением Петрарки русской читающей публикой. Последнему обстоятельству немало способствует и клочковатость сегодняшних изданий у нас Петрарки - в смысле бесконечности списка переводческих имен, при, очевидно, не выполнимой сверхзадаче сохранить в переводе каждую букву подлинника. Список этот давно пошел на третий десяток.
Переводческие имена - по крайней мере, некоторые - являются действительно украшением изданий. Именно вчитываясь в переводы великолепных творцов российского слова - видишь нашу общую беду - жуткий провал нас всех в восприятии Петрарки как феномена. (Мы имеем ввиду отношение к женщине, о чем см. выше). Тут не помогает ни знание итальянского, ни безукоризненное владение родным языком. Впрочем, судя по имеющимся изданиям, работа по переводу на русский "Собрания песен" еще далека от завершения.
Специфика переложений стихов Петрарки
Да, но в чем же, собственно говоря, трудность перевода стихов Петрарки - и вообще - перевода итальянских стихов на наш язык? Давайте коснемся одной лишь техники. Строка итальянского стихотворения - силлабическая строка (напоминаем, что она отличается от силлабо-тонической именно отсутствием одномерности), у Петрарки - исключительно - одиннадцатисложник и семисложник. Одиннадцатисложник - в сонетах. В канцонах, в основном, - он же, но там есть и семисложник. Мы не стали воспринимать у Запада их интерлинеарно-прозаический метод переложения иноязычной поэзии. Нам такой метод чужд - у нас есть Жуковский, есть Пушкин, есть, наконец, Маршак.
Основной принцип русской переводческой школы, заложенный еще Жуковским, заключался в точной передаче количества слогов подлинника, но в пересчете на силлабо-тоническую метрику. Можно ли считать российский пятистопный ямб полностью адекватным италийскому одиннадцатисложнику? Да, пятистопный ямб имеет те же десять-одиннадцать слогов. Но ведь то же количество ритмизирующих гласных имеет и трехстопный дактиль!
Строя перевод на точном количестве слогов, но вводя другую метрическую систему, мы поневоле игнорируем мелодику подлинника. Классическими стали примеры, когда перевод Жуковским "Лесного царя" Гете плохо совместим с Шубертовской мелодикой, а "Колокола" Э.А. По в переводе Бальмонта потребовали обратного (и на этот раз - эквиритмического) стихотворного перевода на английский дабы явить иноязычной публике красоту известной музыкальной поэмы С. Рахманинова.
Силлабическая строка Петрарка по русски могла бы быть мелодически представлена дольником. Под последним понимается тот или иной трехдольный размер с выпущенными безударными слогами. "Не Актеон любовался Дианой,/ Плескавшейся в зной рекой ледяною,/ Сведенный с нею случайностью странной,-/ Я стыл перед пастушкой губой, простою,/ В струях полоскавшей пестрое платье:/ Мне Лавра локон сверкнул над волною,/ Как солнце, снявшее с мрака заклятье, - / И в страсти холодной стал вдруг дрожать я". [10]