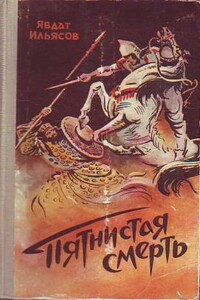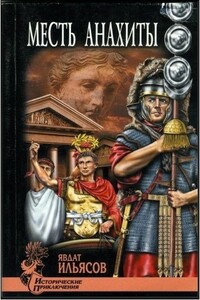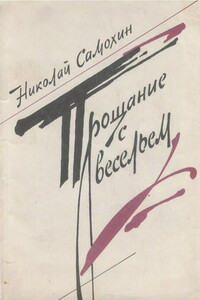— Ах, невоздержан ты на язык, невоздержан, — вздохнул сокрушенно настоятель. — Так легко в наш век навлечь на себя ненависть тех, кто выше нас, и так нелегко заслужить их любовь.
— Обойдусь! — резко сказал Омар у порога.
— Гаденыш! Я хотел тебе добра. Погибнешь, ах, погибнешь.
— Как можно, сидя на краю могилы и болтая в ней обеими ножками, пророчить чью-то гибель? Хлопочите о себе, почтенный шейх. Вы идите своим путем — я пойду своим.
— Изыди и сгинь, — проворчал ему вслед обескураженный вероучитель.
***
Ночь. Это кто, внезапно спугнув тишину, гремит у входа в мастерскую? Ночью орудуют воры. Но воры, делая свое дело, стараются шуметь как можно меньше. Это стража. Это миршаб, владыка ночи, с подручными.
Они, точно так же, как воры, боятся действовать днем. Они не могут, как люди, спокойно постучать в калитку. Им надо ее сломать. Конечно, этаким детинам нетрудно сломать ветхую калитку мирного дома, принадлежащего их земляку. Вот защитить в свое время от чужаков мощные, в железных бляхах-заклепках, ворота родного города они не сумели.
Их встретила мать.
— Где твой безбожный сын? — накинулся на женщину "владыка ночи".
— Уехал.
— Куда?
— В Баге-Санг.
— Это где?
— У Астрабада, в горах.
— Успел-таки удрать? Ну, пусть и сидит там тихо, как мышь, не суется назад в Нишапур. Он, скверный, надерзил святому шейху и посему объявлен вне закона.
— Женщина лжет, — заявил один из подручных. — Мы следили: сын ее, как вернулся из медресе, не выходил из дому.
— Значит, он здесь! Переройте всю мастерскую. Рубите мечами тюки, отсечете руку или ногу — сразу голос подаст.
Ибрахим тихо скользнул через внутреннюю калитку в жилой двор, попросил разбудить Рысбека.
— В мастерскую вломилась ночная стража. Кого-то ищут. Потрошат готовый товар. Господин иктадар может потерпеть большой убыток.
Убыток? Рысбек всполошил боевую дружину. Не успели собаки залаять, как незадачливых стражников, избитых в кровь, искалеченных, не слушая их объяснений, туркмены выкинули на улицу.
— Хоть какая-то польза от нечестивцев, — шепнул дрожащий палаточник сыну, спрятавшемуся среди тюков в глубине рабочих помещений.
На рассвете, обрядив Омара в материнскую чадру, Ибрахим украдкой отвел его в караван-сарай у Балхских ворот.
"Итак, вы ненавидите нас? Хорошо же! — Омар скрипнул зубами. — Не надейтесь, что мы совсем безобидны, — умеем тоже ненавидеть. И наша ненависть стократ страшнее! Где уж вам, скудоумным, тягаться с нами. Талант, обращенный к мести, может измыслить такую каверзу, что заклеймит вас на веки вечные. Погодите, я вам отплачу. За все — и за всех. Как и чем, я еще не знаю, но досадить сумею, не сомневайтесь…
Но, может быть, они достойны скорей сожаления, чем вражды? — сказал он себе, стараясь быть беспристрастным. — Невежество — от рабства.
Эх! В том-то и дело, что самое жуткое в рабстве — не цепь, а то, что раб настолько свыкается с нею, что уже жить не может без нее. И ничего иного не хочет. Отбери у быка-дурака кормушку — он своим яростно-жалобным ревом оглушит всю округу. И невдомек несчастному: чем больше он будет жрать, тем больше будет жиреть — и скорей попадет под нож.
Извечная опора великой черной силе, именуемой ненасытной человеческой жадностью, и обдуманно, неустанно угнетающей вольную мысль с тех пор, как она появилась, — благонамеренный, послушный закону, так сказать, «порядочный» человек: с тем, кто выше, — тошнотворно-угодливый, с тем, кто ниже, — тупо-нахрапистый, злобный, скупой, стяжатель.
Отца родного готов он по миру пустить, глотка воды не даст он в засуху соседу — и учит его, как надо жить. Ну их всех к черту! Пусть от холеры вымрут. И вымрут, видит бог, поголовно, если не вылезут из своих зловонных луж и не окунутся в проточную чистую воду".
…Он думал, что больше никогда никому не улыбнется. Но ошибся, конечно: ему довелось еще улыбаться, смеяться и хохотать. Жизнь берет свое.
***
Ибрахим дал сыну денег на дорогу, присовокупив к ним родительские наставления, причем наставлений — куда больше, чем денег: "Береги монету пуще глаза! Где нужно израсходовать дирхем, трать всего полдирхема".