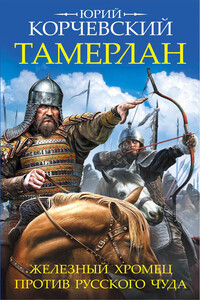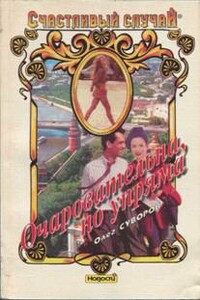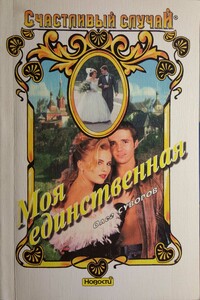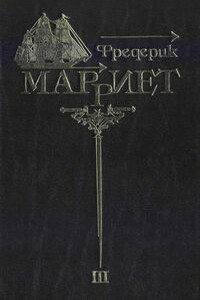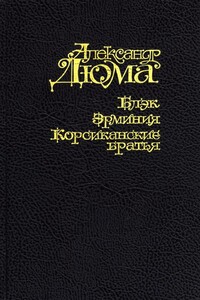Беатриса мало и неохотно рассказывала о своём прошлом, явно потому, что слишком тяжело давались ей эти воспоминания, но Максимиан и не настаивал на этом, поскольку его теперь больше всего волновало будущее.
— Как же я счастлив, что узнал тебя, carissima[36], — тихо и быстро говорил он. — Как же я рад, что это произошло не слишком поздно, когда бы уже ничего нельзя было поправить. Ты так непохожа на других девушек, что с тобой я могу говорить обо всём, как с собственной душой. Но существует один вопрос, который всегда и всюду мужчины задают тем женщинам, которые им по-настоящему дороги. Позволь же и я спрошу тебя об этом.
— Спрашивай, — так же тихо ответила Беатриса и отвела взгляд.
— Ты уже когда-нибудь любила?
— Нет, но... Нет, Максимиан, нет. — Последнее «нет» прозвучало достаточно решительно, однако он уже почувствовал лёгкую тень колебания и стал настаивать. Беатриса вздыхала, молча качала головой и всё же, побеждённая его настойчивой нежностью, в конце концов рассказала ему о своём первом девичьем увлечении.
Они с матерью постоянно странствовали, редко оседая на одном месте, и виной тому была беспокойная, мятущаяся на грани безумия натура Элпис. Впрочем, порой именно это безумие спасало их от грубостей и преследований плебса, испытывавшего какое-то мистическое почтение к одержимости. Однажды осенью — Беатрисе тогда едва исполнилось восемнадцать лет — они устроились на работу к римскому колону, имевшему прекрасный фруктовый сад. С утра до вечера вместе со всем семейством почтенного арендатора они убирали урожай персиков, груш и винограда. Те же немногие часы, которые отводились для отдыха, Элпис отдавала сочинению религиозных гимнов, а Беатриса проводила в обществе своего ровесника, восемнадцатилетнего сына колона. Этот некрасивый и хрупкий юноша от рождения был глухонемым.
Когда Беатриса в своём рассказе дошла до этого места, Максимиан почувствовал, что перестал ревновать, и всё дальнейшее выслушал уже достаточно спокойно. Да и как можно было ревновать к несчастному, который, конечно же, влюбился в Беатрису, всеми силами старался ей угодить и даже выполнял большую часть её дневной работы! Хотя сама девушка стеснялась говорить об этом, но Максимиан понял, что и Беатриса почувствовала к юноше нечто такое, что ныне ей казалось первой любовью.
— Он был таким трогательным и милым, — говорила она Максимиану, — и всегда смотрел на меня так преданно, что я даже испытывала какую-то неловкость, потому что не знала, как и чем смогу ответить на его чувства. Я не понимала языка жестов, и мы не могли разговаривать, поэтому только гуляли по окрестностям, и он каждый день учил меня одному замечательному искусству, которое потом спасло меня от бесчестия... Вот смотри, — и тут Беатриса вдруг извлекла из складок своей туники небольшой, но очень острый нож с утяжелённой рукояткой. — Он подарил мне этот нож, а мама сшила для него специальный чехол, чтобы я всегда могла носить его при себе.
— Зачем?
Вместо ответа Беатриса ловко взяла нож за лезвие, привстала со скамьи и быстрым движением метнула его в тонкий ствол молодой туи, которая росла почти в двадцати шагах от их беседки. И хотя аллея освещалась только лунным светом, Максимиан услышал глухой стук, свидетельствовавший о том, что нож попал точно в цель. Поражённый её ловкостью, он сорвался с места, добежал до дерева и, выдернув нож из ствола, принёс его Беатрисе.
— А что было дальше? — спросил он, когда она снова опустилась на скамью.
— Ничего, — и при этом ответе ему показалось, что она даже вздохнула. — Когда работа закончилась, арендатор не только расплатился с нами, но и предложил нам остаться жить у него.
— Он хотел женить на тебе своего сына?
— Не знаю... может быть. Но этого не захотела моя мама, и мы отправились дальше.
— Какое счастье! — невольно воскликнул Максимиан. — Иначе мы никогда бы не встретились.
Беатриса слабо и задумчиво улыбнулась. Воспользовавшись этой задумчивостью, поэт немедленно завладел её рукой и, чтобы отвлечь её внимание, спросил:
— Ну, а когда же тебе пригодилось это удивительное умение так ловко метать нож?