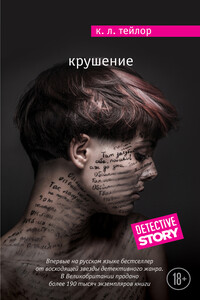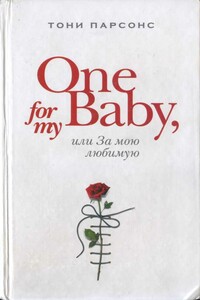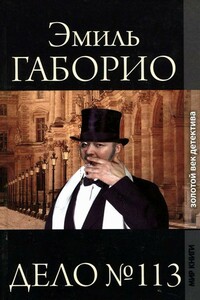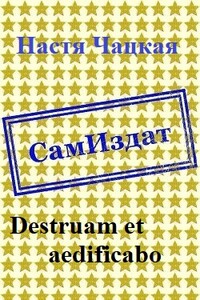Ты должна была любить Скаут, думал я. Любить ее больше всего на свете.
Стэн крутился вокруг моей бывшей жены, помахивая хвостиком. С надеждой обнюхал ее ноги. Энн встала, держась одной рукой за поясницу, а другой отмахиваясь. Ее милое стареющее лицо исказила брезгливая гримаса.
– Не люблю собак. Никогда не знаешь, где побывал их нос.
Я отнес щенка в спальню дочери, и он проводил меня печальным взглядом.
Когда я вернулся, Скаут показывала Энн детские боксерские перчатки, которые я купил. Сказать по правде, Скаут осталась к ним равнодушна. Она предпочитала рисовать, гулять со Стэном и разговаривать с куклами (дочка настаивала, что она не играет с ними – «просто разговаривает»). Но я видел, что Скаут чувствует какое-то безотчетное стремление показать матери что-нибудь новое. Ведь тогда та, быть может, останется.
Пока они болтали, я пошел на кухню. Я почти сварил кофе, когда на меня огромной волной вдруг нахлынуло горе. В глазах защипало, к горлу подкатил ком. Не было сил шевельнуться.
Потом все прошло.
Я вернулся в комнату с подносом, на котором стояли две чашки кофе и апельсиновый сок.
– Кофе я больше не пью, – сказала Энн.
Я растерялся. Раньше она его любила.
– Тогда принесу воды.
– Не сори из-за меня деньгами, – сказала она, и я рассмеялся.
Она всегда умела меня рассмешить.
– Хочешь посмотреть, как я рисую? – спросила Скаут.
– Конечно! – Энн погладила живот. – Конечно, милая!
Скаут убежала в свою комнату, а мы с Энн посмотрели друг на друга. Я видел, как ей трудно.
Мы обернулись на голос дочери. Щенок пытался сбежать из-под ареста.
– Нет, Стэн, – сказала ему Скаут и вошла в комнату, закрыв за собой дверь.
– Собака? – произнесла Энн. – Бокс?
Она говорила так, будто я держал притон для наркоманов.
Энн медленно прошлась по комнате, будто проверяя, не забыла ли тут что-нибудь важное, и вдруг наступила на игрушечную обезьянку. Та громко запищала.
– У тебя везде хлам. И разбрасывает его даже не Скаут.
Она была права. Стэн раскидывал свой собственный мусор. В этом возрасте собака – все равно что ребенок. По всей квартире валялись его игрушки – утка с пищалкой, шипастый резиновый мячик, медведь в нагруднике с британским флагом, кусочки погрызенных костей и растрепанной веревки.
– Это твоя собака? – спросила Энн с презрительным удивлением, которое было мне прекрасно знакомо. – Или тебя попросили за ней присмотреть?
– Собаки – замечательные существа, – ответил я.
Скаут принесла рисунки, а за ней прибежал Стэн и украдкой покосился на меня.
– Собакам все равно, красивый ты или нет, богатый или бедный, умный или не очень. Им не важно, какую машину ты водишь.
– Правильно, – кивнула Энн. – Потому что собаки глупы. Что это за странный запах?
– Взбитый омлет, – сказала Скаут и положила перед матерью стопку рисунков. – Папа сжег сковороду.
– Взбитый омлет? – переспросила Энн. – Такого не бывает!
– Нет, бывает, он очень вкусный, – не сдавалась дочь, и я чуть не прослезился от такой верности моим скромным кулинарным талантам. – Туда можно положить все, что хочешь. Ветчину и сыр и есть все это с соусом для барбекю.
Энн погладила ее по голове и рассмеялась:
– Милая, есть омлет – и есть взбитые яйца. Но взбитых омлетов не существует.
Скаут широко раскрыла глаза.
– Многие мужчины отлично готовят, – сказала она.
Энн с улыбкой покачала головой и посмотрела на верхний рисунок.
– Что это?
– Это нам в школе задали, – ответила Скаут и старательно прочла надпись. – Моя семья.
Энн ахнула:
– Но здесь только папочка, ты и собака. А где мамочка? Где твой братик? И Оливер?
Другой мужчина. Что ж. Хорошо хоть, она не назвала его «дядя Оливер». По крайней мере, нас избавили от этого унижения.
– У меня есть еще рисунки, – быстро продолжила Скаут, перебив мать, и снова ушла в свою комнату.
– Послушай, – начала Энн. – Если тебе трудно приспособиться…
Я удивленно посмотрел на нее, не зная, что сказать. Разве «терпеть» и «приспособиться» – одно и то же? Поясницу вдруг скрутило.
– Что с тобой? – спросила Энн.
– А у папы сегодня выходной. – Скаут принесла целую охапку рисунков. – У него спина болит.
– И давно это, Макс?