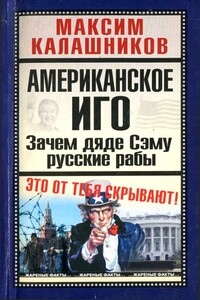На протяжении всей своей долгой истории университеты были избирательными институтами – на разных этапах выборка осуществлялась по разным критериям, например религиозным, профессиональным или политическим, почти всегда они были избирательными и в классовом смысле, а в ХХ в. становились все более избирательными в плане интеллектуальных способностей. Напускному эгалитаризму рыночных демократий нелегко согласиться с утверждениями о разных способностях индивидов и еще сложнее – с идеями о внутренних ценностных различиях разных видов деятельности. Идеология консюмеристского выбора заключается в том, что все желания в принципе равны: единственное приемлемое указание на ценность – это потребительский спрос. Все остальное отдает «элитизмом», кажется патерналистской попыткой некоторых диктовать остальным то, чего им хотеть. Мысль о том, что некоторые вещи внутренне ценнее других и что их должны серьезно взращивать исключительно те, у кого есть соответствующие способности, только раздражает.
Особенно это верно в том случае, когда есть хоть какое-то подозрение, что на подобный отбор влияет привилегия в той или иной традиционной форме. Чтобы прояснить, в чем тут проблема, интересно для сравнения рассмотреть почти полное отсутствие недовольства «элитизмом» в высших эшелонах профессионального спорта (и нечто подобное можно сказать также о консерваториях и балетных школах). Общество принимает в целом принцип совершенно безжалостного отбора по способностям – как на уровне спортивных школ и юношеских команд, так и в командах высшего дивизиона, участвующих в международных соревнованиях. И точно так же оно соглашается с тем, что люди, добивающиеся успеха на этом уровне, должны иметь все условия и обеспечение, какие только можно купить за деньги, в том числе в некоторых случаях и деньги налогоплательщиков. Одно из очевидных предварительных условий этой общественной поддержки состоит в понимании того, что ни социальный класс, ни даже этническое происхождение не выступают барьером для успеха в таком спорте. Когда же на сей счет возникали кое-какие сомнения, как, например, еще недавно в таких видах спорта, как крикет и регби, тут же раздавались обвинения в «элитизме». Также важно, чтобы эти виды спорта были достаточно популярны и по крайней мере частично финансировались платежеспособной публикой, которая взамен ожидает высоких результатов. В таких обстоятельствах людей простого происхождения, добивающихся успехов в деятельности, которая поддерживается общим народным энтузиазмом, не обязательно тут же начинают подозревать в «высокомерии», а строгий отбор по способностям считается важным и одновременно справедливым. Но у университетов нет таких преимуществ.
Итак, фундаментальная проблема, с которой то и дело сталкиваются те, кто пытается обосновать общественную поддержку университетов, выглядит так: многое из того, что в них происходит, по самой своей природе обычно расценивается в качестве «бесполезного» и «элитистского», т. е. того, что трудно оправдать прямым вкладом как в экономическое процветание, так и в «социальную интеграцию». Однако здесь мы, вероятно, натыкаемся на пределы того, что было бы продуктивным отстаивать в публичном обсуждении университетов. Как я уже не раз подчеркивал в этой книге, политикам в рыночной демократии вроде нашей британской трудно найти язык, на котором можно формулировать требования касательно того, что традиционно считалось «самодостаточным благом», и выступать против того, чего якобы действительно хотят «потребители». Университеты служат и всегда служили разным инструментальным целям, однако в то же время они по самой своей сути проводят такую работу, оправдание которой выходит за пределы этих инструментальных задач. Поиск языка, на котором можно говорить об этом неустранимом противоречии, – дело, конечно, непростое, но, если мы не попытаемся, критики смогут с полным правом сказать, что задачу отстоять университет мы пустили на самотек. Порой возникает ощущение, что самое большее, на что можно надеяться, не теряя связи с реальностью, – так это, если говорить словами великого мастера реализма и повторения, «провалиться снова, провалиться лучше».