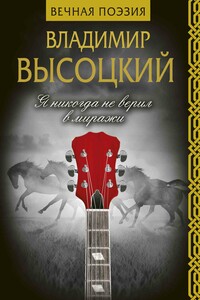Восстань, мой дух, стряхни дремоту,
Скорей исполнить поспеши
Свою привычную работу...
Мне кажется очень существенным проникнуть в непростой замысел композитора: все романсы объединены лейтмотивом (варьируемым), близкими тонально-гармоническими красками (написаны они в тональностях ля-бемоль мажор, ре-бемоль мажор, си-бемоль мажор). И упомянутые ранее темные глубины леса и воды кажутся «навеянными» бемольными тональностями: они — темнее, чем диезные... И написана сюита скорее всего для меццо-сопрано — голоса более «темно» звучащего, чем сопрано или тенор. Я слышал сюиту в исполнении певца-баритона, певшего формально; сухо играл и пианист. А надо вложить в каждый романс все, на что способна душа, ведь сам композитор был очень искренним, открытым... Мне кажется, что родился этот замысел не без влияния Танеева, ранее вдохновлявшегося Бальмонтом.
В начале XX века большой известностью пользовались баллады и мелодекламации Аренского. Балладу «Менестрель» на слова Майкова гениально, по отзывам современников, исполнял Шаляпин. Именно для него Аренский написал другую балладу — «Волки» на слова А. Толстого, которая произвела в его трактовке большое впечатление на Горького. Нравилась слушателям и баллада Аренского «Змей» на слова Фета.
«Удачным достижением» считал Асафьев мелодекламации Аренского на тексты стихотворений в прозе Тургенева «Нимфы», «Лазурное царство» и «Как хороши, как свежи были розы» — с неподражаемым совершенством их исполняла В. Ф. Комиссаржевская.
Это простое перечисление, однако, весьма красноречиво: если музыка Аренского вдохновляла гениальных художников эпохи и их искусство было действенным, то не нуждаемся ли мы сейчас в возрождении его вокального наследия, без которого наша жизнь уже стала беднее?
Вокальное творчество Метнера
Вокальной музыкой Метнера я увлекся сравнительно недавно. Причин тому несколько: в консерваторских курсах истории музыки Метнер проходится как-то поспешно и не оставляет сколько-нибудь заметного следа в памяти студентов, а редкие исполнители романсов не привлекают к Метнеру, а скорее оставляют чувство неудовлетворенности и недоумения. Но и прослушанная неоднократно пластинка с авторскими записями романсов Метнера, выступавшего с Одой Слободской, произвела какое-то странное впечатление, будто я вообще впервые слышу эту музыку.
Толчком к творчеству Метнера стала буквально ошеломившая меня фортепианная Соната ми минор, соч. 25. Услышав ее впервые в концертном исполнении, я немедленно приобрел пластинку с ее записью, и на какое-то время она стала моей спутницей. Властно-призывное начало (композитор подтекстовал эти «кличи» — «Слушайте, слушайте, слушайте»), затем смятение, тревожная порывистость и драматизм ее тем и их развитие отражали жизнь человеческой души завораживающе-увлекательно. Поразил тот факт, что сонате предпослан эпиграф из стихотворения моего любимого поэта Тютчева:
О чем ты воюешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Я лихорадочно стал искать литературу о Метнере, где только возможно слушать его фортепианные и вокальные произведения, просматривать его романсы. Знакомство с каждым новым сочинением Метнера заставляло идти дальше. Поначалу я был в отчаянии: в большинстве романсов безумная трудность вокального мелоса сочеталась с ритмической изощренностью, а фортепианная партия вела совершенно самостоятельную линию, «не давались» и образный строй, содержание и смысл.
Изучив почти все романсы, я пришел к грустному для себя выводу, что большинство из них не соответствует тембру моего голоса — я «слышал» их более «темными». Пришлось отобрать лишь два десятка романсов (всего их 111), отвечавших моим голосовым средствам. Я стал постепенно вводить их в свои концертные программы, напел пластинку, на две стороны которой поместилось 16 романсов. Однако до сих пор я не считаю себя готовым к интерпретации музыки этого композитора, поэтому продолжаю размышлять над теми романсами, которые уже исполнял, и над теми, которые будут, вероятно, исполнять мои ученики.
Мне думается, что большая сжатость и углубленность, кинетическая напряженность мысли делают творчество Метнера мало доступным широкой массе слушателей. Его необходимо понять. Он самобытен, поэтому отпугивает обывателей, а людям ищущим доставляет радость. Композитор открывает и дарит много замечательных минут тому, кто разучивает его произведения. Приведу слова Г. Г. Нейгауза: «Когда я играю или просто смотрю глазами его произведения, меня не покидает некоторое чувство чисто музыкантского удовлетворения и удовольствия». Моя же частица любви к Метнеру, быть может, даст вокалистам стимул открыть том его вокальных сочинений и, прикоснувшись к этому целительному источнику, подняться в искусстве ступенью выше.