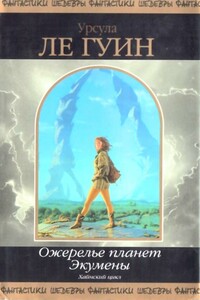А время-то идет! Вот-вот явится Нои, а она столько времени занимается черт знает чем!
Она вскочила так поспешно, что споткнулась и вынуждена была ухватиться за спинку кресла, чтобы не упасть. Потом прошла в ванную и посмотрелась в большое зеркало. Седой узел волос еле держался: она явно плохо причесалась с утра. Некоторое время она боролась с волосами — трудно было долгое время держать руки поднятыми. Амаи, забежавшая в туалет, остановилась, предложила:
«Давайте, я сделаю!», и мгновенно уложила волосы как надо у нее на затылке, ловко действуя своими красивыми сильными пальцами и молча улыбаясь. Амаи было двадцать лет, почти в четыре раза меньше, чем ей, Лайе. Родители девушки были участниками Движения; один погиб во время стычки с полицией в 60-м, вторая по-прежнему активно занималась пропагандой в южных провинциях.
Амаи выросла среди одонийцев, в их Домах, и была поистине дочерью их Революции, дочерью анархии. Эта девочка казалась Лайе такой спокойной, свободной и красивой, что слезы гордости выступали на глазах при мысли: вот ради чего мы трудились, вот что мы имели в виду, вот оно, живое воплощение прекрасного будущего!
Из правого глаза Лайи Асьео Одо действительно упало несколько слезинок, словно сейчас, среди унитазов и раковин, ее причесывала собственная дочь, которой она так никогда и не родила. Но ее левый глаз, здоровый, не плакал; и не знал того, что делает правый глаз.
Она поблагодарила Амаи и поспешила к себе. В зеркало она успела заметить у себя на воротничке пятно. Наверное, сок персика. Слюнтяйка чертова! Неприятно, если Нои заметит, что у нее изо рта капает на воротник.
Продевая голову в воротник чистой блузки, она подумала: «А что такого особенного в этом Нои?» И продолжала думать об этом, медленно застегивая ворот блузки.
Нои было лет тридцать. Мускулистый молодой мужчина с мягким голосом и живыми темными глазами. Вот и все, собственно. Но именно это ей всегда и нравилось в мужчинах. Светловолосые или толстые мужчины для нее попросту не существовали; как и великаны с огромными бицепсами. Нет, никогда! Даже в четырнадцать лет, когда она влюблялась в каждого встречного бездельника.
Темноволосый, худощавый, с пламенным взором — только такой! Тавири, разумеется. Этот мальчик — ничто по сравнению с умницей Тавири; даже внешне он Тавири в подметки не годится, а все ж таки не желает она, чтобы Нои видел пятнышко у нее на воротничке или растрепанные волосы.
Ее редкие, седые волосы.
Нои вошел, чуть помедлив в дверях. Господи, оказывается, она даже дверь не закрыла, когда переодевалась! Она посмотрела на него и увидела себя.
Старуху.
Можешь без конца менять блузки и причесываться, или носить одну и ту же блузку по две недели и по два дня не переплетать косу, или вырядиться в золоченую парчу и напудрить выбритый череп алмазным порошком — все едино.
Старуха старухой и останется! Со всеми своими нелепостями.
Ну что ж, постараемся быть опрятной хотя бы из соображений приличий, из уважения к окружающим.
А потом, наверно, и это желание пропадет, и можно будет без стеснения капать слюной на воротник.
— Доброе утро, — ласково поздоровался молодой человек.
— Здравствуй, Нои.
Нет, Господи, нет, не только из соображений приличий! К черту приличия!
Это из-за того, кого она любила, для кого ее возраст не имел бы значения!
Неужели она, только потому, что Тавири мертв, должна притворяться бесполым существом? Зачем ей скрывать правду — она ведь не из тех проклятых пуритан, что находятся у власти? Еще полгода назад, до инсульта, она заставляла мужчин глядеть на нее, немолодую женщину, с удовольствием! Ну а теперь, когда доставить кому-то удовольствие своим видом она уже не способна, можно же, черт возьми, доставить удовольствие хотя бы самой себе?
Когда Лайе было лет шесть, один из друзей отца, Гадео, часто заходил к нему, и они после обеда разговаривали о политике, а она непременно наряжалась в золотистое ожерелье, которое мама подобрала где-то и отдала ей.
Цепочка была такой короткой, что ожерелья почти не было видно под воротничком. Но Лайе это даже нравилось. Она-то знала, что ожерелье на ней!