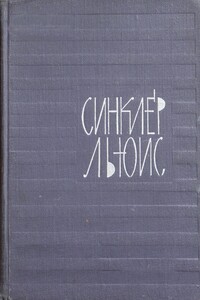Старик пожевал губами и добавил:
— Гнев Божий свершился… Все погибли. Народ от газов, а мучители в пламени, в небе сгорели. Газ разлился широкой полосой. На шестьдесят верст все живое поумерло. И боялся туда народ ходить много лет.
Старик опустил глаза, долго шептал что-то про себя, точно собираясь с духом, чтобы продолжать, тряхнул волосами и заговорил:
— Значит, мы, которые удрали потаенно, не попали в эту беду, пошли по домам. А там — какая радость? Новый урожай погиб, старое все так выскребли, не то что человеку, мыши, и той не прокормиться… Словом, тут смерть от газа, общая страшная смерть от аспидов наших — коммунистов… Дома — все одно, с голода помирать… До зимы пробродили мы потаясь… Грабили, где могли. Что называется, «излишки отнимали»… А какие там излишки! Народ с голода дохнет. И вот, уже поздней зимней порой подошли мы к своим, здешним местам.
В городе Острове есть старый храм. При императрице Екатерине Великой строенный. Шли мы ранним утром мимо него. Народ идет, худые, голодные люди, видно, умирать на каменных плитах порешили. Ну мы, красноармейцы, известно, в Бога не веруем, хоть и у самих живот подвело, все же шутим, смеемся. «Идите, идите, — говорим, — он вас прокормит… «- «А ну как прокормит», — словно что шепнуло нам в душу. Толк-толк один другого. Давай, мол, зайдем. Зашли. Народ на коленях. Ну, мы в шапках, с ружьями, в ранцах — золото, камни самоцветные, тона своего не спускаем, как же! Коммунисты! Товарищи!.. Однако гляжу, — один по одному шапки снимать стали, ружья к стене поставили. В храме тишина… Только слышно: люди плачут. Вышел священник, старый, худой, оглоданный, видать, с голодухи шатается. Стал на амвон у Царских врат, простер руки и говорит: «Покайтеся!» Только одно слово сказал и умолк. И стал народ головами по плитам каменным колотить, аж гул пошел по церкви, слова шепчут, молятся.
Священник опять поднял руки, и все затихло, смотрят на него.
— Покаяние, — говорит, — спасет вас. Ежели хотя один без греха найдется, без крови христианской на совести, все спасены будете… Подымите, говорит, руки.
— И что же, господа мои, — лес рук поднялся по храму, и старых, и молодых, то худых, черных, то, напротив, от голода распухших, белых, и на каждой руке кровь так каплями и текет. Гляжу: девонька двенадцати лет, не боле, и у ней рученька в крови по локоть. Страшно стало до ужаса. Я к ней наклонился, шепчу ей:
— Малютка милая, девонька родная, ты чем согрешила, кого ты убила, малый ребенок?
А она, верите ли, плачет, трясется.
— Я, — шепчет, — братика за коробку леденцов продала, сказала, что он добровольцем служил. Растерзали его красноармейцы!
Опустились руки, глуше стали стенания и шепот молитв. И не знаю, что толкнуло товарища моего Пустынникова, вдруг кинулся сквозь толпу к иконе Божьей Матери, на ходу ранец отстегивает, подбежал, бух на колени и из ранца всю добычу свою — часы золотые, портсигары, кольца к иконе и вывалил. И пошли все наши товарищи за ним опорожнять свои ранцы, мешки да карманы… И я пошел…
Старик тяжело вздохнул, разгладил на голове волосы, провел рукой по бороде и продолжал:
— Окончили мы, значит, это дело, и сами стали на колени. И вошел в храм незаметно юноша. Лицо белое, светлое, рот небольшой, совсем как у девушки, вошел, стал на колени в стороне, лицо суровое стало, в себя ушел, в молитву. И опять священник с амвона говорит:
— Молитесь, православные, русские люди, молитесь! Господь милосерден! Подымите руки.
И опять ряд окровавленных рук поднялся в храме. Поднял и я, и жуть охватила меня. Вся-то рука по самые плечи, как чехлом, обволочена густой темно-красной кровью… И среди леса рук видим — чуть колеблется одна белая, чистая рука… То тот юноша, чистый, безвинный, поднял свою руку святую. И шепот шорохом прошел, точно спелая рожь от ветра колыхнулась: спасены!..
Опустились руки, стали смотреть, где тот юноша прекрасный… И не видать его совсем, кругом лица обыкновенные, серые, голодные, только что случилось с ними, злобы этой, голодной ненависти не стало!..
Долго молился священник, потом встал и сказал вдохновенно и страстно: