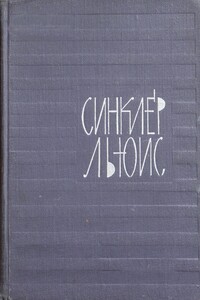Как спелый плод, упала Польша в объятия России. Спустя два месяца после этого события финляндский ригсдаг в торжественном заседании постановил о присоединении к России на старых основаниях. Россия восстановилась в границах 1914 года, расширенных важными приобретениями в Центральной Азии.
Весь Калиш был убран русскими, польскими и немецкими имперскими флагами. На улицах население украшало цветами и коврами дома, ожидая проезда того, кто, наконец, дал покой измученному кровавыми раздорами политических безумцев краю.
Каждое утро с трубными звуками по улицам проходили александрийские черные гусары в барашковых шапках с серебряными черепами. «Бессмертные» гусары гото вились к смотру своего шефа — государыни императрицы.
Вместе с немецкими художниками в Калиш прибыл и Карл Клейст. На этот раз он приехал в спокойном экспрессе, в вагоне с белой железной доской с надписью: «Берлин — Варшава — Санкт-Петербург — прямое сообщение через Калиш».
В зале только что закончили развешивание картин. Художники и их знакомые группами переходили от картины к картине. Перед громадным холстом «Иван царевич и Змей Горыныч» стояли Коренев, жена его Эльза, опиравшаяся на коляску, где крепко спал ее годовалый сын Михаил, профессор Клейст и с ними молодой немецкий художник Виртгейм. Разговор шел по-немецки.
— Что дало Германии открытие русской границы? — спросила Эльза.
— Оздоровление во всем, — отвечал Клейст. — Вы не узнаете теперь Германии. Она вся в кипении. Еще держится социалистическое правительство, но оно уже при последнем издыхании. Оно продолжает лишь бороться с церковью и насиловать школу и искусство. Коммунисты объявлены вне закона. Общество Штальгельм ширится и растет. Несмотря на школу, скажу больше, — вопреки школе, — в семье выращивается старый, благородный немец, верующий в Бога и любящий родину.
Клейст бросил ласковый взгляд на Эльзу и продолжал:
— Как многим мы обязаны немецкой женщине! В критическую минуту жизни государства она отрастила остриженные волосы, надела скромный национальный костюм, бросила нахт-локали, дансинги и кинематографы и, требуя законного брака, стала строить семью. Все наши кинематографические общества прогорели.
— Что теперь танцуют в Берлине? — спросила Эльза.
— Вальс, Анна Федоровна, старый, меланхоличный вальс!.. Вы знаете — Бенц прогорел!
— Да ну! — воскликнул Коренев.
— Теперь немка не говорит мужу, как раньше: «Купи мне ауто», а говорит: «Купи колясочку для моего сына, и будем ходить пешком, наслаждаясь природой…» И наша мечта сойтись опять с Россией.
— Трудно это сделать, — сказал Коренев.
— Мы надеемся на то, что у нас опять будет император и король, Kaiserliche und Konigliche, — вот в чем видит нынешний немец спасение.
— В Баварии уже королевство, — сказал Виртгейм. — И как там сразу хорошо стало. Так как содержать одного короля много дешевле, чем полтысячи депутатов, там налоги снижены больше, чем в два раза.
— И все-таки я не думаю, — сказал Коренев, — чтобы русский народ забыл войну, присылку Ленина, Брестский мир и страшную работу немцев во время большевиков. В поисках новых видов я в прошлом году посетил Всевеликое войско Донское. Страшно сказать, что сделали казаки с концессией Круппа. В те ужасные дни, когда в крови рождалась Россия, там выжигали живьем немцев. Помощь большевикам — это такое ужасное пятно на прошлом Германии, что его ничем не смоешь.
— Я остаюсь оптимистом, — сказал Клейст. — Если бы одна Германия! Но вспомните, что в это время делала Франция? А Лига наций? А подпись Литвинова под «Пактом мира», начавшим ряд войн? Все хороши! А русский народ отходчив. Притом ведь все это зло делал не немецкий народ, а социалисты… Немецкий народ никогда этого не хотел.
— Но социалисты продолжают быть у власти.
— Пока, дорогой Коренев… Мы медленно думаем, да зато крепко строим. У нас нет императора — вот в чем беда. Мы раскололись. Одни за потомков императора Вильгельма, другие — за сыновей Рупрехта баварского. Идут споры.
— Надо, — тихо сказал Коренев, — чтобы император сам появился вне партий.
— Сошел с Баварских Альп, вышел из лесов Тюрингии, из благословенного Таунуса, — проговорила Эльза.