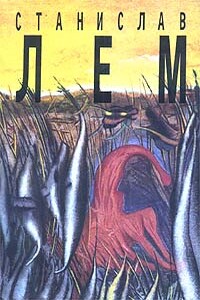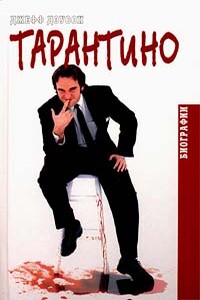Ведь не идти же ему на службу самодержавной власти!
Что же делать свободному человеку, художнику в этой стране?!
Он должен погибнуть или сопротивляться.
Спор Бурцова с Грибоедовым, который Бурцову кажется спором побежденного с победителем, для третьего участника спора, писателя Ю. Н. Тынянова, представляется спором двух людей, которые никогда не смогут понять друг друга, потому что один видит в декабризме только высокие идеалы, а другой — их реальное воплощение. Спор документов (проект Грибоедова и пометки на полях «Вступления к проекту устава», сделанные Бурцевым)[106] превратился в спор двух человек не только разных идеологий, но и разных психологий.
Тынянов старается поправить психологию идеологией, а историю (не отрываясь от документа) — условиями быта и ситуации. Тынянову важна не только программа человека, но и личные свойства носителя программы. Тут на равных правах политический тезис и психологические свойства людей. У героев Тынянова счастливое совпадение личного и общественного. Личные и социальные судьбы совмещаются. Это приводит героев Тынянова к гибели.
В споре с Грибоедовым Бурцов ничего не доказывает, а только благородно обижается. Он абсолютно ничего убедительного не говорит, и Грибоедов его абсолютно убедительно разбивает. Сначала кажется, что Грибоедов разбивает не идеалы, а иллюзии декабризма. Но когда он вводит результат в историю, становится понятным, что между идеалом и иллюзиями разницы нет. И тут выясняется нечто совсем удивительное: выясняется, что вообще ничего хорошего быть не может, потому что и проект Грибоедова, и проекты декабристов ничего, кроме тех же, что есть, или новых порабощений, дать не могут. И поэтому Бурцов губит проект из-за того, что он приведет «к новым порабощениям», а Грибоедов отвечает ему, мимоходом кольнув службой у Паскевича, что если бы они победили, то у них «получилось бы то же, что и сейчас».
Спор о путях исторического развития России превращается в спор об отношении к людям, в решающий спор о социальной нравственности, о взаимоотношениях государства и общества, о смысле и назначении революции, которая нужна для того, чтобы принести людям счастье. В споре выясняется, что для Грибоедова моральная сторона вопроса значения не имеет и рассуждения о людях (то есть о народе) вызывают зевок.
Но, вероятно, зевок, жестокость Грибоедова больше, чем к «людям», имеют отношение к иллюзиям. В отличие от Бурцова, человека с полумировоззрением, с мировоззрением, боящимся додумать до конца, преданного идеалам свободы, равенства и братства («что нынче несколько смешно»), Грибоедов был человеком, не боявшимся додумать, он знал: боги жаждут.
Начинается ссора, вызов на дуэль, отказ от дуэли, потом бурцовская резолюция:
«По той причине, что вы новую аристокрацию денежную создать хотите, что тысячи погибнут, — я буду всемерно проект ваш губить». И Грибоедов ему отвечает так, как только может ответить человек, который все знает заранее, который ничему не удивляется, которому уже ничего не надо, который едет умирать, потому что уже ничего нового быть не может, уже все было, и то, что еще будет, уже было. «— Губите, — лениво сказал Грибоедов».
Бурцов «ходил глазами по Грибоедову, как по крепости, неожиданно оказавшейся пустой».
Он не понял, что в битве с Грибоедовым выиграл декабрьское восстание и потерял государство, которое они мечтали создать и из-за которого их расстреливали, вешали и ссылали.
А Грибоедов понял, что такое государство можно получить и без восстания. Но вот и оно не выходит. Может быть, потому, что бессмысленно создавать то, что уже создано, надеясь на то, что созданное будет лучше, и смутно догадываться, что тирания, деспотия, самодержавие и гнет роковой власти будут всегда?
Он все понимал. Он понимал, что самодержавие и роковая власть ничего не позволят.
«Новое государство затерялось в папках Нессельрода, квитанциях Финика.
После разговора с Бурцевым он более не думал о нем».
Но еще раньше мысль о возможной гибели проекта вызывает у Грибоедова галлюцинацию. Галлюцинация такая:
«Через три часа начинают стучать молотки. Они сколачивают помост. Но в этом нет ничего страшного: свежие доски и новые гвозди.